А у меня этот гадский youtube-чат отказался отправлять сообщения (набрать позволял...и что я делала не так?). Одно расстройство.
Внимание!
А у меня этот гадский youtube-чат отказался отправлять сообщения (набрать позволял...и что я делала не так?). Одно расстройство.
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
По сети пошла волна перепечаток материалов с форума «Русь Балтийская». Вопрос касается идола, найденного в кургане Чёрная Могила под Черниговом и его, предположительно, сознательной стилизации под скандинавские изображения богов при реставрации.
Коротко о кургане.
читать дальше
Курган расположен по улице Князя Чёрного у пересечения с ул. Тихая и площади улиц Воровского и Комсомольской. Местное предание, его именно князю Чёрному, легендарному основателю города.
Курган был раскопан в 1872—1873 годах археологом, уроженцем Черниговщины Д. Я. Самоквасовым.

Размеры кургана: диаметр - 40м., окружность – 125м., сохранившаяся высота 11м. В древности он был окружен рвом шириной до 7м.
Захоронены в кургане двое мужчин, предположительно отец и сын, и женщина, погребение проходило по обряду кремации. Умершие мужчины, погребенные в полном военном облачении, занимали среднюю часть кострища. Рядом с воином находилось оружие – два меча, сабля, копье, седло со стременами, фрагменты кольчуги, шлем, наконечники стрел, в ногах – щит с медной оковкой. Рядом с оружием находились железный сосуд с костями барана и бронзовая жаровня с угольями. У ног умершего были положены двое оседланных лошадей. Среди вещей, связанных с женщиной, десять серпов в ногах. Западную часть кострища занимали двенадцать ведер полукругом, от которых сохранилась железная оковка, и два железных сосуда. На месте, где лежали умершие, найдены многочисленные украшения, наконечники поясов, золотые и серебряные слитки – остатки расплавившихся в огне украшений, бронзовый сосуд с бабками – игральными костями, ключи, замки, топоры и долота.
Первоначальная насыпь кургана составляла 7м, затем здесь состоялась тризна в честь умершего, после которой курган был досыпан. На месте тризны были найдены два ритона, изготовленных из турьих рогов с серебряной, щедро орнаментированной, оковкой. Оковка большого ритона более интересна – с замечательным фризом, где изображены фантастические животные, птицы, люди. Кроме того, на месте тризны найдены два жертвенных ножа и бронзовый идол, нынче и ставший предметом спора. Также в кургане найдены три византийские монеты, наиболее поздняя из которых вычеканена в 945 – 959 гг Константином VII Багрянородным и его сыном Романом, причём монета выглядит незатёртой, т.е. новой. По этой монете курган датируют 960 –ми годами – эпохой князя Святослава (964 - 972 гг.).
Основной источник, википедия
Разумеется, можно сразу вспомнить и описание похорон знатного купца-руса у Ибн-Фадлана, и трактовку находок академиком Рыбаковым. Но речь в данном случае не об очередной (безнадёжной) попытке однозначно отождествить фадлановских «русов».
История реставрации фигурки
Почти через 40 лет после публикации Д. Я. Самоквасова в 1949 г. Б. А. Рыбаков в работе, посвященной древностям Чернигова, заметил, что, «к сожалению, до химической расчистки... очень трудно что-либо сказать об этой фигурке». (...) В 1982 г., через 110 лет после извлечения из кургана, статуэтка была передана в Отдел реставрации Государственного Исторического музея сотруднику В. Н. Даркевич.
Реставрация выявила фигурку темно-красной бронзы высотой в 45 мм, весом чуть более 39 г, изображающую сидящего мужчину, круглоголового и бородатого; руки его подняты к груди, локти отведены, правой рукой фигурка держит себя за бороду около рта, левой сжимает какой-то предмет (несохранившийся), рука касается кончика бороды; рот щелевидный, круглые, слегка вытаращенные глаза. Мужчина одет в кафтан, между полами которого на коленях 2—3 слабые полоски-складки одежды, вокруг талии широкий пояс, серповидные концы которого свисают слева и справа, на правом запястье браслет.
(источник)
Обвинение выдвинуто нешуточное, фактически, в научной не слепоте даже — недобросовестности.
Делается это на основании двух фотографий - изначального найденной фигурки, и вышедшей из рук реставратора.

(сдвоенный снимок по лени своей взяла из ЖЖ smelding 'a)
Доводы обвинения:
При сравнении фотографий № 1 и № 2 бросается в глаза ряд несовпадений :
- рог фигурки №1 превращается в часть бороды у №2, меняя наклон и ширину;
- правая ладонь у №1 доходит до середины рога, а у №2 – полностью охватывает уже бороду;
- браслет на правой руке №1 выходит за контуры тела, а у №2 располагается на фоне тела;
- у №1 рог и левая ладонь касаются пояса, а у №2 расположены намного выше;
- у №1 рот примерно на уровне плеч, у №2 – заметно выше и т.д. ( правый бок, пояс ).
Основная мысль: славянское божество подогнали под скандинавские образцы: Фрейра и Тора (можно увидеть по ссылке на историю фигурки).
Вот только есть ещё один снимок, та же фигурка, но ракурс не сверху, и при нормально сфокусированной камере.

(источник второго снимка)
Ребят, ну не ведитесь вы на Мировой Заговор Учёных, лады?
P.S. И процесс восстановления изделий из металла не зависит (напрямую
 ) от симпатий и антипатий мастера. Пройдясь по Очеркам по методике технологического исследования реставрации и консервации древних металлических изделий.(1935) по главам, можно, я думаю, оценить методику, сложность и присутствие объективных факторов в работе.
) от симпатий и антипатий мастера. Пройдясь по Очеркам по методике технологического исследования реставрации и консервации древних металлических изделий.(1935) по главам, можно, я думаю, оценить методику, сложность и присутствие объективных факторов в работе.@темы: статьи, мифология, идолы, Чёрная Могила, боги и богини
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментарии (2)
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
(Oral to literary: kvöldvaka, textual instability and all that jazz)
Автор Джо Аллард (Joe Allard)
читать дальшеБольшинство научных и критических трудов, касающихся средневековой исландской литературы за прошлые сто пятьдесят лет, указывали, что одиннадцатые и двенадцатые столетия засвидетельствовали изменение в практике и способе обучения в Исландии — от преобладания устной традиции к преобладанию книжной и литературной. Аргументация такова, что с изобретением и развитием метода записи на древнесеверном языке после христианизации, исландцы с новым умением постепенно становились доминирующим голосом в культуре, которая ранее была почти исключительно устной, рунические надписи являлись исключением. Моё эссе основывается на утверждении, что устные и литературные традиции в своих крайних проявлениях отличаются тем, что устное является, по существу, исполнительским искусством, литературное же — навсегда определённый текст. Однако, если отойти от крайностей, есть постоянный и плодотворно работающий взаимообмен между устным и литературным, который должен всегда приниматься во внимание при рассмотрении происхождения той литературы, которую мы имеем сегодня. В течении рассматриваемого периода и долгое время после него благополучо сосуществовали традиции устные и литературные. Более древние устные традиции не были изгнаны, заменены, или подавлены более новыми книжными и литературными методами, как мы столь часто предполагаем. Я надеюсь показать здесь, что рассмотрение видов музыкальной записи и музыкального исполнения за прошлые двести пятьдесят лет демонстрирует схожее развитие и разнообразие, которое может пролить свет на годы, в течение которых древняя исландская литература складывалась, исполнялась, читалась, слушалась и записывалась.
С самого начала и в течение многих столетий после этого исландская литература была в значительной степени исполнительским искусством — будь оно устным или письменным. Многими моментами поэтического и повествовательного рассказа обменивались в сообществе во время вечерних посиделок-kvöldvaka (букв. вечернее-бодрствование), вечернего развлечения на хуторах в течение долгой зимы. Они были ареной для sagnaskemmtun (букв. рассказо-развлечение или, проще, рассказывание историй), когда, согласно Эггерту Оулавссону (Eggert Ólafsson) и Бьярни Паулссону (Bjarni Pálsson) в 1772 г. глава дома, или молодой парень, или гость читают либо родовые саги либо исполняют римы-rímur. Это должно было помогать людям оставаться бодрствующими и развлекать их, когда они сидели за домашней работой по вечерам. Такое исполнение не было однонаправленно — читатель или рассказчик к аудитории — но совмесным. Аудитория не была пассивна. Согласно свидетельству шотландского богослова Эбенезера Хендерсона (Ebenezer Henderson), что провел зиму 1814-15 гг. в Исландии, «того, кто читает, часто прерывают, или глава, или некоторые из более образованных членов семьи, которые делают замечания в различные моменты истории, и предлагают вопросы, в целях развития находчивости детей и слуг». [Driscoll, 1997, 2, 197-198] Этот вид исполнительской атмосферы имеет больше общего с аудиторией и исполнителями в джазовой музыке, чем с намного более формальной и однонаправленной природой исполнения классической музыки, которая (природа) столь твердо укоренена в основанной на давнем обычае письменной традиции, или, тем более, в опыте чтения в тишине самому себе.
Другое общее академическое положение — что многие из этих устных форм были подавлены церковью и прекратили существование. Квинн (Quinn) пишет так: «На другом конце спектра устного дискурса лежат этнические традиции, которые были сознательно подавлены церковью. Само собой разумеется, текстуализация этих традиций вряд ли возможна, но мы всё же знаем немного о некоторых из них из формулировок борцов с ними. Епископ Йоун Огмандарсон (Jón Ogmundarson, ум. 1121 г.) запретил декламацию стихов о любви (mannsöngskvæði, mannsöngsvísur), очевидно, популярный обычай, когда мужчина и женщина обменивались импровизированными стихотворениями» (Quinn, 2000, 36). То, что епископ Йоун требовал обычай уничтожить, не обязательно подразумевает, что он в этом преуспел. История исландской литературы заполнена возмущенными клерикалами и интеллектуалами, осуждающими «безнравственные и грязные» или «вульгарные и простецкие» формы популярной поэзии. Этот список знаменитостей включает Гудбранда Торлаукссона (Guðbrandur Þorláksson, ок. 1541 – 1627 гг.), Людвига Харбо (Ludvig Harboe, в Исландии 1741-1746 гг.), Магнуса Стивенсена (Magnús Stephensen) и Ханнеса Финнссона (Hannes Finnsson) в 1796 г., Йоуна Хальгримссона (Jónas Hallgrímsson) в его статье в Fjölnir в 1837 г., представителей романтичного движения, таких, как Бенедикт Грёндаль (Benedikt Gröndal, 1826-1907 гг.), не закончились дискуссии и в двадцатом веке. Спорить и быть смертельно серьезными в вопросах литературы всегда являлось отличительной чертой исландской интеллектуальной жизни. Вспомним более позднее парламентское и юридическое возмущение, касавшееся Рагнара Йоунссона (Ragnar Jónsson), Стефауна Эгмундссона (Stefán Ögmundsson) и Хальдоура Лахснесса (Halldór Laxness) в 1940-ых из-за издания саги с осовремененым правописанием, или дебатов о том, было ли то, что писали «Атомные поэты» вообще стихами. Обмен стихами (обычно спетыми) между мужчинами и женщинами остаётся основой многих хороших Торраблотов (Þorrablót).Существует, очевидно, несколько основных устных форм, которые могли бы явиться частью посиделок-kvöldvaka, и которые сохраняются в каждодневной практике в течение многих столетий. В рамках подобной устной традиции уже 1935 году известному народному поэту Хьяльмару из Хова (Hjálmar frá Hofi) был брошен вызов на поэтический поединок, heiðarlega hólmgönguáskorun, его соперником Свейном Скальдом из Эливага (Sveinn Skáld frá Elivogum): Orustan var háð 30.marz 1935 í Varðarhúsinu í Reykjavik fyrir fullu húsi af áheyrendum. [Сражение произошло 30-ого марта 1935 года в Вардхусид (Varðarhusið, Сторожевой дом) в Рейкьявике перед полным помещением слушателей]. Хотя множество вещей и Хьяльмара, и Свейна были изданы в середине столетия, стихи, произнесённые во время поединка, были, по своей сути, устными, и, насколько я знаю, они нигде не записаны (Hjálmar frá Hofi, 1950, 121).
Если я прав, что устные и более новые литературные традиции вполне комфортно сосуществовали в двенадцатом столетии в Исландии, тогда мы могли бы ожидать, что сохранившиеся письменные тексты этого периода могут быть менее фиксированными и определенными, и могли бы демонстрировать большее разнообразие в нюансах и намёках, чем записи более позднего периода, когда сильнее доминировал текст. Это — часть нашей интеллектуальной традиции: либо игнорировать и избегать традиции устной, либо рассматривать устные тексты, которые были записаны, так, как будто они являются тем же самым, что и авторские тексты. Различия между ними, однако, велики. Авторский текст является намного более определённым, конкретным и, в некотором смысле, ограниченным, чем его устный аналог. Как отмечал Фоли (Foley): «письменный текст имеет более детерминированное либретто, его унитарный характер, обеспечивающий достаточные (и достаточно чёткие) сигналы, определяет активность читателя вполне — или, по крайней мере, относительно — строго; изменение в опыте, полученном от письменной работы, таким образом относительно полно контролируемо самой работой. Однако читатель выполняет работу с записанным текстом, и текст, из которого он черпает опыт, является в основе своей оригинальным и уникальным, единственным в своём роде» (Foley,1987, 198). В устной же традиции разнообразие исполнительских образцов ни контролируемо столь строго, ни настолько исключительно по своей природе — иными словами, есть большее число типов саг и рассказов, чем мы обычно признаем.
Я хотел бы предложить следующее сравнение, которое проливает свет на рассматриваемые различия. Это — сравнение музыкального исполнения (и записи) в классической традиции и в джазе. Я использую термин «классический» здесь в смысле, используемом Чарльзом Розеном (Charles Rosen) для обозначения стилистического развития музыки Гайдна, Моцарта и Бетховена в последующих восемнадцатом и девятнадцатом веках и того, что следовало из этого развития. Классическое исполнение находится в русле литературной традиции. В начале процесса исполнитель «читает» текст (не обязательно непосредственно при выступлении, подобно Листу). С конца восемнадцатого столетия в тексте увеличивается разнообразие указаний: в дополнение к ключу и отметкам времени, а также форме и длительности нот и пауз в гармоническом пространстве (которые важны для любой музыкальной записи) появляются указания для темпа, фразировки, динамики, настроения, и так далее. У музыкального текста для фортепьяно Шумана имеется двадцать восемь или более указующих пометок (см. приложение). Исполнение, таким образом, является представлением оригинального и уникального текста, строго определенного композитором. При исполнении, которое мало чем отличается от религиозного ритуала, пассивная аудитория сидит, затаив дыхание, в тишине, с целью увидеть и услышать воссоздание тем или иным образом «священного» текста исполненным вдохновения артистом. Исполнение оценивается, частично, если не в основном, по соответствию оригинальному тексту. Доводимое до крайности, это может привести к идее «совершенного» исполнения, которое является «точным» воспроизведением оригинала.
Джаз, с другой стороны, является, по сути, импровизационным и коллективным. Обычно есть основная идея (традиционная песня или мелодия) и определенные шаблонные грамматики и структуры (12 барных блюзов, например), но результатом джазового исполнения является некая новая интерпретация либо игра с этими базовыми мотивами. Никакие два джазовых выступления не будут одинаковы. Записать отдельное выступление означает зафиксировать его, конечно, и тем сохранить для будущей импровизации, но, сам по себе запись является приятным минималистским упражнением. Однако любое настоящее джазовая выступление, основанное ли на записи или нет, окажется уникальным и будет отличаться от всех других. Идеальный джазовый концерт — собрание игроков, которые присоединяются к развивающемуся музыкальному процессу, когда у них есть что сказать. Как в устной прозаической традиции, здесь есть грамматика (ладовые и гармонические структуры), есть традиционные мотивы, «принятое произношение», если кто-то захочет присоединиться. Но всегда есть значительная степень свободы. Аранжировка Телониуса Монка (Thelonius Monk, см. приложение) содержит чуть более трети от управляющих символов в сравнении с Шуманом: лишь одиннадцать. Это различие между классической, «записанной и прочитанной» традицией и джазовой традицией импровизации является большим, чем просто аналогия или метафора, для нашего вопроса про устный рассказ как противоположность традиции письменного рассказа. В музыке, как и в литературных исследованиях, именно в течение последних восемнадцатого и девятнадцатого веков текст достигает такой степени сложности и господства. Более ранним композиторам и исполнителям давалось меньше указаний и, предположительно, ожидали от них большей импровизации. Партитура Баха к «Ричеркар» (см. приложение), отправленная Фридриху Великому как часть его «Музыкального приношения» в 1747г. ближе к Монку, чем к Шуману: здесь есть только девять команд. От исполнителей как бы ожидалось, что они будут играть с материалом, вместо того, чтобы просто воспроизводить его. Фактически «Ричеркар» — собственная более поздняя запись Бахом его импровизации на тему во время посещения двора Фредрика в Потсдаме в 1744 г.
Мы можем лучше понять то, как действует джазовая традиция, если рассматрием запись двух исполнений «Современным Джазовым Квартетом» (Modern Jazz Quartet, MJQ) в 1950-ых «Мягко, как при Утреннем Восходе Солнца» (Softly, as in a Morning Sunrise, по мотивам Новолуния (New Moon ) Оскара Хаммерстайна (Oscar Hammerstein) и Зигмунда Ромберга (Sigmund Romberg)) была регулярная часть их исполнительного репертуара. В апрельской записи 1952г. с Милтом Джексоном (Milt Jackson, вибрафон), Джоном Льюисом (John Lewis, фортепьяно), Перси Хитом (Percy Heath, бас) и Кенни Кларком (Kenny Clarke, барабаны) композиция длится в течение трех минут и двадцати пяти секунд («Звукозаписывающая компания Савойи», Ньюарк, Нью-Джерси). На их альбоме «Конкорд» (Concorde), записанном в июле 1955 г. с Конни Кеем (Connie Kay) на барабанах, исполнение длится семь минут и пятидесят семь секунд («Престижная запись», Беркли, Калифорния). Разница поучительна. Прежде всего, состав музыкантов несколько отличается. Вторая запись все еще основана на идее Хаммерстейна/Ромберга, но теперь она начинается и завершается с игрой с «Каноном V» (Canon V) из «Музыкального приношения» Баха от 1747г. (см. приложение). Бах имеет прекрасный музыкальный смысл в этом контексте. Каждый раз, когда MJQ исполнял «Мягко, как при Утреннем Восходе Солнца», или, на самом-то деле, любой другой номер, они исполняли его по-другому — главный пример и свободы импровизации, и гибкости текста — в действительности в некоторых случаях близкие к отсутствие текста вообще.
Роджер Скратон (Roger Scruton) делает интересное наблюдение в этом контексте: «Джазовый исполнитель — в некотором смысле также композитор, или одна часть корпоративного композитора. Но описывать свободную импровизацию таким образом — означает предположить, что композиция является парадигмой, и импровизация вторична. Было бы более верным для истории музыки, и более верным для наших глубочайших музыкальных инстинктов рассматривать ситуацию наоборот: видеть композицию рождённой из записи музыки, и из последующего трансформации записывающего — от писца до создателя вещи, которую он пишет. Жак Деррида лихо раскритиковал западную цивилизацию как «логоцентрическую» — с привилегированным положением речи перед записью при передаче человеческих идей. Критика эта является противоположностью правды: наша цивилизация поставила в столь привелигированное положение письменный текст в сфере религии, закона, и политики, так же, как в искусстве и литературе, что мы склонны терять из виду тот факт, что письменные знаки обязаны своей жизнью вещи, которая записана» (Scruton, 1997, 439).
Письменные тексты в большей степени предписывают и определяют, чем их устные аналоги, которые куда сильнее зависят свободы исполнения. Если я прав, тогда мы должны быть в состоянии различить некоторые особенности в стиле саги, которые предполагают устное исполнение, такие как часто отмечаемый паратактический стиль, краткость, лаконизм, малое число или отсутствие прилагательных, и краткие или незначительные комментарии от лица, записывающего сагу. Представим себе ситуацию на вечерних посиделках-kvöldvaka, во время которых, как мы знаем, слушатели могли часто прерывать рассказ, и люди дома могли иметь свои мысли и ощущение необходимости вмешательства, тогда ситуация с исполнением становится намного более ясной: функция «текста», каким он дошёл до нас, становится более прозрачной и, возможно, потенциально еще более непостоянный.
Я хочу вернуться к старым дебатам о следующем отрывке из «Саги о Торгильсе и Хавлиди» (Þorgils saga og Hafliða) о праздновании свадьбы в Рейкьхоларе (Reykjahólar, Холм Дымов) в 1119г.:
Þar var nú glaumr ok gleði mikil ok skemtan góð ok margskonar leikar, bæði dansleikar, glímur ok sagnaskemtan. Þar var sjau nætr fastar ok fullar setit at boðinu...Frá þvi er nökkut sagt, erþó er lítil tilkoma, hverir þar skemtu eða hverju skemt var.Hrólfr af Skálmarnesi sagði sögu frá Hröngviði víkingi ok frá Óláfi liðmannakonungi ok haugbroti Þráins berserks ok Hrómundi Gripssyni, ok margar vísur með. En þessari sögu var skemt Sverri konungi, ok kallaði hann slíkar lygisögur skemtiligastar. Ok þó kunnu menn at telja ættir sínar til Hrómundar Gripssonar. Þessa sögu hafði Hrólfr sjálfr samansetta. Ingimundr prestr sagði sögu Orms Barreyjarskálds ok vísur margar ok flokk góðan við enda sögunnar, er Ingimundr hafði ortan, ok hafa margir fróðir menn þessa sögu fyrir satt. (Brown,1952, 17-18, выделение автора)
[И было тут много веселья и радости, хороших развлечений и много видов игр, танцев, так же как борьбы-глимы и развлекательных историй-саг. Праздник длился семь ночей кряду. Расскажем немного, хоть это и маловажно, кто там развлекал или чем. Хрольв из Скалмарнеса рассказал сагу о Хрёнгвиде Викинге и Олаве Конунге Воинов и о проникновении в курган Траина Берсерка и о Хромунде сыне Грипа, и в ней было много вис. Эта сага развлекла конунга Сверрира, и он сказал, что такие лживые саги — самые забавные. И, однако, могли люди проследить свой род к Хромунду сыну Грипа. Эту сагу составил сам Хрольв. Священник Ингимунд рассказал сагу об Орме Скальде с острова Барра со многими висами и хорошим флокком в конце, который Ингимунд сочинил, и многие мудрые люди считают эту сагу истинной.]
Большая часть академических обсуждений фрагмента подразумевала, что в сферу «существенных вопросов» входит обсуждение историчности или неисторичности саг и их генеалогий и стихов, что сохранились, и были ли они исполнены устно или написаны и прочитаны Хрольвом и Ингимундом. Может быть так;t, что большинство из них не обращаются к идентификации Хрольва и Ингимунда? Таким образом, кто фактически выступал разказчиком развлекательных саг имело мало значения. Возможно, почти в любой компании, был тот, кто занимался этим; или, по крайней мере, достаточно того, что именование этих двоих является необычным и достойным комментария. Хрольв и Ингимунд, конечно, появляются в саге в других ролях (праздник на хуторе Ингимунда), так что именование их не удивительно, но в контексте свадебного пира, когда другие, конечно, могли бы выступить с сагами и стихами и прочесть жития святых и проповеди, и спеть застольные песни и так далее, выделение двух исполнителей могло вынудить автора сделать примечаний о том, что þó er lítil tilkoma [хоть это и маловажно]. Нам говорят, что пир продолжался целых семь дней и ночей. Конечно, должно было быть больше развлекателей-skemmtun (певцов, рассказчиков и чтецов), чем одни Хрольв и Ингимунд. Какие же иные развлекательные саги, возможно, там были?
Исключительно ради забавы, но с серьезным намерением, я хотел бы предположить, что прядь про Звёздного Одди (Stjörnu-Odda Draumr , «Сон Звёздного Одди») была изначально сложена и исполнена как часть развлечений в 1119 г.; тем более, что детальная версия её была записана примерно в то же самое время, что и «Сага о Торгильсе» (Þorgils saga), вероятно в или немногим позже 1237 г. (Brown, 1952 г.). В конце-концов, мы можем рассматривать «Сон Звёздного Одди» как очень раннего предтечу того, что станет традицией рим по лживым сагам на вечерних посиделках (lýgisaga-rímur-kvöldvaka), которая главенствовала среди народных развлечений в Исландии в течение очень многих столетий. «Сон Звёздного Одди» привлекает меня как стыдливая — и очень забавная — демонстрация и создания саги в устной традиции, и указаний на некоторые, по крайней мере, элементы, которые дают нам информацию о природе изложения фактов в сагах. Приблизительно в 1119г. одноимённый Одди Хельгасон (ок. 1070/80 — ок. 1140/50 гг.), с Кручи в Главной Долине Дымов (Múli in Aðalreykjadalur) работал над своим трактатом по вычислениям — арифметика в сочетании с астрономическими наблюдениями и рассчётами, на которых основывался календарь и Альтингов, и церкви (Islenzk Fornrit, XIII, 1991, ccxiii). Труды Одди и плоды его наблюдений воплощены в трактате по вычислениям, который был составлен вскоре после его смерти на основании его собственных записей и сохранился в рукописи конца двенадцатого столетия. Работа базируется частично на иностранных, латинских, источниках, что означает, что Одии латынь знал, но также и на независимых наблюдениях в условиях Исландии на шесьдесят шестом градусе северной широты.
Поскольку большая часть «Сна» является стыдливой пародией на многие приемы саг, текст дает нам уникальное понимание всех этих спорных вопросов устной традиции, ожиданий аудитории, и самого процесса рассказывания саг-sagnaskemmtun. Он также предлагает ключи к более значительным вопросам повествовательного метода. Раасказ необычным образом разбит на фрагменты. Основная «история» является лживой сагой-lygisaga. Любая аудитория при развлекательном (skemmtun) выступлении ожидала бы определенных клише этого жанра. Тут и старый король в Гаутланде, ярл с дочерью-«валькирией», оплакиваемая смерть короля, оставившего после себя несовершеннолетнего наследника, разбойники-берсерки с жилищем в глубокой чаще и их поражение от молодого наследника, придворный поэт, который слагает флокк (flokkr) и драпу (drápa), такая деталь, как развязавшийся ремешок, набеги викингов; морские сражения; смена облика и резня; великолепные пиры и королевские свадьбы. Я мог бы продолжить этот список и дальше, но и этого пока достаточно. Всё перечисленное и много другое является элементами лживой саги-lygisaga во «Сне Звездного Одди».
Лживые саги, по определению, являются неправдоподобными, но, как я уже говорил, здесь история пародийна. Рассказчик явно исполняет её смеха ради и уделяет мало внимания согласованности рассказа. Один пример: поход придворного поэта Дагфинна с конунгом Гейрвидом против берсеркеров Гарпа и Гнура. Гейрвиду только что исполнилось 12 лет, и он заявляет о своем намерении противостоять разбойниками и убить обоих. Он говорит, что возьмет с собой только одного человека. Дагфинн вызывается добровольцем, заявив: Herra, segir hann, engan mann veit eg þér meiri sæmd eiga að launa í alla staði en mig. Er eg og því skyldari að skiljat aldrei við þig er þú ert í meira háska staddur ef þér viljið þiggja mitt föruneyti og fylgd og er til þessar farar albúinn þegar þér viljið (465). [Господин, — сказал он, — никто из людей, знаю я, не принесёт тебе больше славы в ответ в любом положении, чем я. И потому я и должен быть с тобой, когда ты в наиболее опасном положении, если ты пожелаешь взять меня в спутники и сопровождающие, и что я к этому пути целиком готов тотчас, как ты пожелаешь (Marvin Taylor, Complete Sagas of Icelanders)] Вскоре после того они наблюдают берсерков с вершины подходящего холма: Þá mælti Dagfinnur: ‘Herra, eg vil yður kunnigt gera að eg er eigi mjög vanur vopnaskipti og kann eg lítt að treysta hug mínum né vopnfimi. Nú vil eg að þér kjósið um tvo kosti, hvort þér viljið heldur að eg ráðist í mót berserkjunum með þér eða viltu að eg sjái til yðvarrar sameignar af hólinum og kunni eg frá að segja öðrum mönnum.’ Konungur svarar: ‘Ef þér lér nokkuð tveggja huga um þetta mál þá þykir mér einsætt að þú sért hér á hólinum og sjáir héðan til sameignar vorrar og komir eigi nær við vor vopnaskipti.’Dagfinnur tekur það ráð sem konungur mælti og dvaldist eftir á hólinum og kemur hvergi nær og þykir honum það allráðlegt en konungurinn sjálfur ræðst ofan af hólinum í móti stigamönnuum (466) [Тогда сказал Дагфинн: «Господин, я должен вам признаться, что я не очень привычен к бою и мало я могу положиться на свою отвагу или умение владеть оружием. Теперь я хочу, чтобы вы выбрали одно из двух: либо вы пожелаете, чтобы я выступил против берсерков вместе с вами или вы предпочтёте, чтобы я наблюдал с холма за вашей битвой и смог об этом рассказать другим людям». Конунг отвечал: «Если тебе требуется придавать отваги на это дело, то очевидно мне, что ты должен остаться здесь на холме, и смотреть отсюда на наш бой и не подходить к схватке близко». Дагфинн принял тот совет, что дал конунг, и устроился на холме и никоим образом не подходил близко, и счёл он то разумным, что конунг сам решил спуститься вниз с холма навстречу разбойникам].
Другой пример своевольного игнорирования рассказчиком внутренних противоречий истории касается брака Дагфинна с единокровной сестрой короля Хладрейда в самом конце. Принцесса описана таким образом: Hlaðreið konnungssystir var þá gjafvaxta og þó ung mjög að aldri en kvenna var hún fegurst og friðust og best að sér ger um alla hluti. (456) [Сестра конунга Хладрейд тогда достигла брачного возраста, хотя была еще очень молода, но {конечно!} была она самой блестящей и самой красивейшей из женщин, и очень способной во всех отношениях.] Однако если попытатся построить хронологию истории (смерть старого конунга — брак ярла с вдовой конунга (другого) — рождение Хладрейд — смерть ярла, вызвавшая возвращение его опальной дочери Хлегун) принцессе не может быть больше двух лет приблизительно. И я думаю, что такое пренебрежительное обхождение с законами жанра является целиком намеренным и лежит в основе юмора саги.
Теперь о приёмах повествования. Кого мы слышим? Первый абзац использует многое из того, что Роберт Келлог в свой «Природе повествования» (Robert Kellogg, The Nature of Narrative) назвал «шаблонными» элементами традиционной «грамматики» саг. У самого Одди опущена большая часть генеалогии, кроме его отца Хельги, но упомянуты его календарные вычисления. Также подчеркнуто, что он не был поэтом, и при этом не часто декламировал стихи. Он крайне честен, не слишком богат и не особо трудолюбив. Было немалоо спекуляций о личности об Одди Хельгассона, непосредственно основанных на этом отрывке. Торкель Торкельссона (Þorkell Þorkelsson) был обеспокоен описанием Одди как félíttið (букв. малоимущий). Учитывая корни Одди в окрестностяъ Миватна (Mývatn, букв. Комариное озеро, озеро на севере Исландии) и другие его связи, и семейные, и политические, ему сложно было представить, что Одди испытывал бы нужду. Я б хотел предложить альтернативу: то, что сказано о нём, является в значительной степени шуткой. Он не был беден; и при этом он не был посредственным работником. Он был опытным поэтом и декламатором поэзии. Исходная аудитория, знакомая с человеком, и последующие слушатели, знающие традиции, шутку бы оценили. Стоит только вспомнить характеристику Чосером самого себя в эпизоде между сценами «Сэр Топас» и «Рассказ о Мелибее» в «Кентерберийских рассказах», чтобы оценить, как аудитория, знакомая с «Одди», могла бы наслаждаться шуткой. Чосер-паломник, описанный Гарри Бейлом (Harry Bailey) как застенчивый и злой, утверждаеи, что только знает одно стихотворение. Затем он рассказывает то, что должно представлять собой на удивление плохие стихи четырнадцатого столетия на любом языке. Настолько плохие, что Хозяин останавливает его во время ошеломляющей декламации:
«Клянусь крестом, довольно! Нету сил! -
Трактирщик во весь голос возопил, -
От болтовни твоей завяли уши.
Глупей еще не слыхивал я чуши.
А люди те, должно быть, угорели,
Кому по вкусу эти доггерели» .
"Не прерывал, однако, ты других, -
Я возразил, – а это стих как стих.
Претензий я твоих не понимаю
И лучшего стиха найти не чаю».
«Ну, если уж по правде говорить,
Так стих такой не стоит и бранить,
И нечего напрасно время тратить».
(Тут он ввернул еще проклятье кстати.)
(Эпилог к рассказу о сэре Топасе, перевод О. Румера)
Во втором абзаце мы, якобы, слушаем сообщение рассказчика, который услышал историю от самого Одди. Посланный с Кручи на Плоский остров (Flatey) за рыбой, Одди заснул. Он видит во сне, что вернулся на Кручу в то время, когда люди ложаться спать. Прибыл гость и предложил развлечь окружающих сагой (beðinn skemmtunar, попросил развлечений). Здесь начинает лживая сага о конунге Хродбьярте (Hrodbjart), Гейрвиде, Дагфинне и всех прочих. В течение трех абзацев у нас есть упоминание о трех рассказчиках: анонимном исполнителе саги, лично Одди, и госте; и о трёх местах: Круче, Плоском острове и Гаутланде. Или должны мы посчитать Кручу дважды и считать их за четыре? Это разнообразие возможностей восхитительно. Перед нами игра с приемом смены голоса повествователя, и места отдыха в этом коротком отрывке.
Начало четвёртой главы смешивает действие. У Гейрвида, разумеется, есть придворный поэт. Дагфинн по природе своей лишён отваги, но ужасно предан и вполне в состоянии обеспечить флокки и драпы, когда в том возникает нужда. Посмотрите внимательно (если можете), что происходит, принимая во внимание, что уже есть три повествовательных линии: En þegar þessi maður, Dagfinnur, var nefndur í sögunni þá er frá því að segja er mjög er undarlegt að þá brá því við í drauminum Odda að hann Oddi sjálfur þóttist vera þessi maður, Dagfinnur, en gesturinn sá er söguna sagði er nú úr sögunni og drauminum en þá þóttist hann sjálfur sjá og vita allt það er heðan af ef drauminum. (465) [И как только этот человек, Дагфинн, был назван в повествовании, тогда, сказывают, столь удивительное произошло со сном Одди, что самому Одди показалось, что он и был этим человеком, Дагфинном, а тот гость, что рассказывал сагу, теперь вне саги и вне сна (букв. «[исчезает] из саги»), и теперь ему казалось, что он сам видит и знает всё то, что с этого момента было во сне]. Тут перед нами — обычное в сагах литературное определение для действующих лиц, которые больше не используются настолько прямо и становятся «вне саги» — одноимённый Ölkofra (Пивной Капюшон) является хорошим примером — но это, должно быть, уникальный случай, когда человек, сагу рассказывающий, «вне саги» и, конечно, «вне сна». Попытайтесь вообразить сложности рассказа, который возник бы, если бы гость был «вне саги», но все еще во сне! Одди становится Дагфинном и освобождённая история снова мчится бурным потоком.
После серии событий, малоправдоподобных и типичных, история повторяется. Развязавшийся ремешок на обуви — постоянный мотив, часто указыващий на захватывающую ситуацию (вспомним о том, как это случилось со Скарпхедином перед убийством Траина в «Саге о Ньяле». Лучшим примером для нашихх целей, учитывая время и место, является эпизод в «Саге о людях с Долины Дымов и Скуте-Убийце» [Reykdæla saga og Víga-Skútu ], когда ремешок Скуты развязывается. Завязывая его заново он подвергается нападению Грима, которого он побеждает и привязывает к столбу на острове озера Миватн, совершенно голого, и оставляет его умирать от голода, мучимого комарьём. Здесь же ремешок Дагфинна развязывается и: Og siðan bindur hann þvenginn og þá vaknaði hann og var þá Oddi, sem von var, en eigi Dagfinnur (471) [И затем он завязал повторно, и тогда пробудился он и тут стал он Одди снова, как можно было ожидать, а не Дагфиннн ] Одди выходит, чтобы посмотреть на звезды. Он помнит сон, так же как пять строф из флокка, что сочинил Дагфинна (Одди?). Вспомним, что Одди, как говорят, не является ни поэтом, ни декламатором стихов. Проваливаясь обратно в сон, герой продолжает историю Дагфинна, проходит через её кровавую кульминацию в морском сражении и соответствующий праздник, включая драпу от Дагфинна, Дагфиннов (педофилический) брак и счастливую жизнь после того. Сон закончен, и Одди пробуждается. Он вспоминает весь сон, но может повторить только 16 стихов из 30 стихов драпы. Стихи обоих, и флока, и драпы, довольно невыразительны.
Устная и литературная (путём чтения) традиции развлечения рассказами сосуществовали в Исландии в течение многих столетий так же, как литература и более современная, основанная на звуке и изображении (радио, телевидение, кино, DVD и IT), традиции сосуществуют в нашей культуре. Конечно, устное выступление здесь также присутствует, во множестве форм. В тексте «Сна Звёздного Одди» у нас есть запись конкретного, и, вероятно, довольно позднего, исполнения того, что, должно быть, было популярной частью развлекательных (skemmtun) выступлений. Если я прав в своем предложении, датировка первого исполнения, основанная на филологических доказательствах содержания стихов, невозможна или несущественна. Сага звучит в определенном смысле как современная «Саге о Торгильсе» — создание образов, обороты речи и так далее. Стиль рассказчика является скромно-описательным и диалоговым — хотя он говорит «о письме» в тексте дважды, эффект подобен скорее выслушиванию рассказчика, чем чтению автора, что прекрасно соответствует ситуации с вечерними посиделками-kvöldvaka. Это походит на короткие письменные заметки или серию примечаний и напоминаний, а не на фиксированный и священный текст. Это хорошо соответствует моей аналогии с музыкой: и в каноне для двух голосов Баха и в арранжировке Монка изображены схематически определенные идеи, но их развитие, в итоге, является вопросом исполнения. В осознанно «письменной» партитуре, как у Шумана, есть почти в три раза больше руководящих указаний, чем в партитуре импровизационной. Каждый исполнитель (или группа исполнителей) был бы волен, как ожидалось, составить флокк и драпу на ночь. Частью развлечения для последующих зрителей годами были бы появляющиеся изменения привычной темы. Сентенция финала истории Одди — «можно и не удивляться, что стихи сложены неуклюже, потому что сочинено было во сне» — является индульгенцией исполнителям на импровизацию.
Некоторые примечания.
Рима (ríma, мн.ч. rímur, исл. «рифма») — разновидность популярной поэзии в Исландии (наряду, например, с балладами), развившаяся из скальдической поэзии. Большая часть рим являлась версификацией саг или эпизодов из саг, и дошла до нас в основном в рукописной форме (так что сюжет некоторых саг мы можем восстановить лишь по римам). Римы создавались с XIV по XIX век, и даже в XX веке. Они включают конечную рифму (форма происходит от латинских гимнов с техникой подсчета слогов), внутреннюю рифму (рифму между словами в одной строке) и аллитерацию, используемые древнесеверными скальдами. Строфа римы сострояла обычно из двух или четырёх строк. Римы были основной формой эпической поэзии в Исландии в течение пяти столетий: 78 из них сохранились с периода до 1600 года, 138 созданы в XVII столетии, 248 в XVIII, 505 в XIX и 75 в XX веке. Форма рим оставалась неизменной на протяжении пяти столетий, причём критики отмечают, что далеко не все из множества сохранившихся рим имели значительную художественную ценность.
Риверенд Эбенезер Хендерсон (Reverend Ebenezer Henderson, 1784 – 1858 гг.) был одним из первых иностранцев, посетивших Исландию и опубликовавших подробные записки о своём пребывании на острове (1818 г.).
Хальдоур Лахснесс (Halldór Kiljan Laxness, 1902-1998 гг.) — исландский писатель. Социалист, католик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1955 года и Литературной премии Всемирного совета мира. В своих произведениях поднимал острые социальные вопросы, в частности, в его роман «Атомная станция» (Atómstöðin, 1948 г.), написанном в ответ на основание постоянной американской авиабазы в Кеблавике, осуждает послевоенную моральную деградацию жителей Рейкьявика, готовых продавать свой народ за иностранное золото.
Рагнар Йоунссон (Ragnar Jónsson, 1904 – 1984), больше известный как Рагнар из Смаура (Ragnar í Smára), был знаковой фигурой в культурной жизни Исландии в качестве покровителя искусств, книгоиздателя и коллекционера произведений искусства.
Стивен Эгмундссон (Stefán Ögmundsson, 1909 – 1989 гг.), типограф.
«Атомные поэты» (англ. Atom Poets) — группа исландских поэтов-модернистов, начинавших свою деятельность в 1940-50-ые гг. В их круг входили Эйнар Браги (Einar Bragi), Ханнес Сигфуссон (Hannes Sigfússon), Йоун Оускар (Jón Óskar), Сигфус Дадасон (Sigfús Daðason), Дагур Сигурдарсон (Dagur Sigurðarson) и Стефаун Хёрдур Гримссон (Stefán Hörður Grímsson), творившие под влиянием французского сюрреализма (Эйнар Браги, в частности, перевёл несколько их произведений на исладский). Название группы взято из романа Хальдоура Лахснесса «Атомная станция» (1948 г.) и первоначально носило уничижительный характер, поскольку относилось к плохим поэтом с малоприятным характером. «Атомные поэты» не придерживались прежних традиций размера и аллитерации, использовали приёмы «свободного стихосложения», распространённые к тому времени в Европе. Произведения их были достаточно сложными для восприятия и требующими от читателя усилий.
Чарльз Розен (Charles Welles Rosen, 1927 – 2012 гг.) — американский пианист и автор музыки, педагог и учёный, автор работ по теории музыки, был профессором Университета штата Нью-Йорк, где читал курс лекций по проблемам интерпретации.
Телониус Сфир Монк (Thelonious Sphere Monk, 1917—1982) — выдающийся джазовый пианист и композитор, наиболее известен как один из родоначальников бибопа.
Ричеркар (итальянское Ricercar, «разыскание», «изыскание») — жанр многоголосой инструментальной, реже вокальной, музыки в Западной Европе XVI—XVII веков)
Роджер Скратон (Roger Scruton, р. 27 февраля 1944 г.) — британский филосов и публицист.
Жак Деррида (1930 – 2004 гг.) — французский философ и теоретик литературы, создатель концепции деконструкции, попытки осознавать привычные вещи, разрушая стереотипы,в новом контексте.
Паратактический стиль — стиль, при котором сложные (сложносочинённые и сложноподчинённые) части предложения записаны без предлогов, что затрудняет выявление логических связей целого предложений.
Доггерель (англ. doggerel) — форма неравносложного «вольного» стиха в старой английской поэзии, похожего на русский раешный стих; употреблялся обычно в сатирических или шутливых произведениях. Позже доггерелем стали называть называют плохие стихи (вроде русского слова «вирши» в ироническом значении).
«Прядь о Пивном Капюшоне» - прядь о незнатном, хоть и зажиточном Торхалле, который по неосторожности сжёг лес могущественных людей, но избежал объявления вне закона, найдя себе хитроумного и достаточно сильного покровителя. Предпоследняя часть пряди заканчивается словами: Er nú Ölkofri ór sögunni («Здесь Пивной Капюшон выходит из саги», перевод Е.А.Гуревич)
@темы: история, статьи, литература, традиции
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
автор Ragna Geirlaug (Hadharkona),
опубликовано на днях в вКонтактной группе ASATRU * АСАТРУ Германское язычество.
Праздник Урожая
Прошлогодняя статья про Осенний Пир, на др.-исл. Haustboð. Это настоящее название праздника, который в современном Асатру чаще имеет русское название "Урожай" или кельтское "Мабон", поскольку раньше среди язычников не было известно о наличии аутентичного праздника у скандинавов. Для уже читавших ее в конце есть дополнения: собрано еще больше информации, стало больше цитат из саг.
читать дальше
Современные асатруа отмечают 8 праздников годового цикла. Один из них — день осеннео равноденствия — носит на русском языке название Урожай или заимствованное у кельтов Мабон. Некоторые задаются вопросом, существовал ли раньше этот праздник и нужно ли его отмечать. Другие считают, что подтверждением историчности праздника является Октоберфест, хотя на сайте самого Октоберфеста говорится, что впервые он проведен 17 октября 1810 года в честь свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской.
О том, что праздник в прошлом существовал, говорится у Шервуд Е. А. В статье «Календарь у древних кельтов и германцев»: «Видукинд Корвейский (X в.) сообщал о трехдневном великом празднике у древних саксов в конце сентября». Вероятно, речь идет о первой книге «Деяний саксов», где в 12-й главе говорится, что праздник в честь взятия города длился три дня и закончился в первый день октября. На цикличность праздника намекает только строка: «эти дни заблуждения по постановлению святых мужей превращены в [дни] поста и молитв, в дни поминовения всех христиан, предшествовавших нам». В статье Шервуд приводятся и названия месяца, приходившегося на сентябрь-октябрь: древненорвежское haustmoanar и древнеисландское haustmánuðr. Можно вспомнить и христианский День святого Михаила, или Михайлов день, который отмечается у западных христиан 29 сентября и о котором говорится в «Саге о крещении Исландии».
В сагах встречается слово Haustboð, которое переводится как праздник осени или осенний пир. В одних случаях он отождествляется с Зимними Ночами, в других нет. Чтобы разобраться в этом, нужно обратиться к упоминаниям праздника Haustboð в сагах, которые можно разбить на три группы. Цитаты приводятся на русском языке, и иногда haustboð переведено просто как «пир».
I. Отождествление Haustboð и Зимних Ночей, когда говорится про «haustboð að vetumóttum»:
• в «Саге о людях с Оружейникова фьорда», IV
«А когда пришли дни начала зимы, сыновья Эгиля устроили пир, и там были оба, Гейтир и Хельги Кошки, Хельги вошел первый и сидел подальше от дверей, потому что любил покрасоваться перед гостями».
• в «Саге о людях с песчаного берега», XXXVII
«На следующий год, в канун наступления зимы, Снорри Годи устроил большое осеннее угощение и зазвал к себе друзей. Наварили вдоволь горячей браги, и пили крепко. Было там и множество застольных забав; начали подбирать мужей для сравнения и рассуждать о том, кто самый знатный муж в округе, и кто самый большой хёвдинг».
• в «Саге о Гисли», XV
«Торгрим задумал дать в предзимние дни осенний пир, встретить зиму и принести жертвы Фрейру».
II. Haustboð, упоминаемый без связи с Зимними Ночами:
• «Книга о занятии земли», часть 2, глава 49
«Гест, сын Оддлейва, присутствовал на осеннем празднике у Льота».
• там же, часть 3, глава 58
«В страну приплыли Гроа и Торей. Гроа поселилась во Дворе Гроа рядом с Капищем. Торей поселилась в Западной Бухте на Вершине Торей. Гроа устроила осенний праздник для Торстейна и его братьев. Торстейну трижды снилось, что он не должен ехать. Тогда Гроа волшбою обрушила лавину на всех людей, что там были.
Епископ был на осеннем празднике у Олава и освятил там огонь. Там были и два берсерка, обоих звали Хаук. Они пошли через этот огонь и оба сгорели, и позже то место назвали Оврагом Хауков. Тогда приняли крещение Торкель и все жители Озёрной Долины».
• «Сага об Эйрике Рыжем», III
«Вскоре после этого Торбьёрн задал осенний пир, как было у него в обычае, потому что он был очень щедрый человек. Приехал на пир Орм с Орлиной Скалы и многие другие друзья Торбьёрна».
• «Сага о людях с Лососьей долины», XLIV
«Пришло время, когда должно было состояться осеннее празднество в Лаугаре».
• «Сага о Греттире», XXXVI
«Торбьёрн Бычья Сила давал большой осенний пир, и съехалось много народа. Это было в то самое время, как Греттир ездил на север, в Озерную Долину. Был на пиру и Торбьёрн Путешественник».
III. Отдельно стоит фрагмент из «Саги об Эгиле», LXXXIV, поскольку там есть указание, когда проводился Haustboð. Торстейн, сын Эгиля, отправился на праздник к Торгейру за четыре недели до наступления зимы и к вечеру прибыл к другу. Поскольку зима начиналась 21-27 октября после Зимних Ночей, время праздника здесь приходится на 23-29 сентября.
«Жил человек по имени Торгейр. Он был родичем и близким другом Торстейна. Он в это время жил на полуострове Альфтанес. Торгейр имел обыкновение каждую осень приглашать к себе гостей на пир. Он поехал к Торстейну, сыну Эгиля, и пригласил его к себе. Торстейн обещал быть, и Торгейр уехал обратно.
В условленный день Торстейн собрался в дорогу. Оставалось четыре недели до начала зимы. С Торстейном поехали живший у него норвежец и двое из его работников. Сыну Торстейна, Гриму, было тогда десять лет. Он тоже отправился с ними. Всего их было пятеро. Они поехали к водопаду на Ланге и дальше через реку, а потом дальше, к реке Ауридаа (Тайменья Река).
За рекою работали Стейнар и Энунд со своими людьми. Узнав Торстейна, они бросились к оружию, а потом вслед за ним и его людьми. Когда Торстейн обнаружил погоню, он и его спутники выезжали с Лангахольта (Длинная Река). Там стоит высокий и неширокий холм. Они спешились и поднялись на холм. Торстейн сказал, чтобы маленький Грим бежал в лес и не оставался с ними. Когда Стейнар и его люди достигли холма, они кинулись на Торстейна и на его спутников, и началась битва.
Со Стейнаром было шесть взрослых мужчин. Седьмым был его двенадцатилетний сын. Их столкновение увидели люди из других дворов, бывшие на лугах, и сбежались, чтобы их разнять. Когда их разняли, оба работника Торстейна были уже убиты. Был убит и один раб Стейнара, и некоторые ранены. Едва их разняли, Торстейн огляделся, ища Грима, и Грима нашли. Он был тяжело ранен, а сын Стейнара лежал возле него мертвый.
Когда Торстейн сел на свою лошадь, Стейнар закричал ему:
— Убегаешь, белобрысый Торстейн?
Торстейн сказал:
— Ты побежишь еще дальше, раньше чем пройдет неделя.
Потом он поехал со своими спутниками через болото, и маленький Грим был с ним. Но когда они ехали по одному холму, мальчик умер, и они похоронили его там. С тех пор этот холм называется Гримсхольт (Холм Грима). А то место, где они бились, зовется с тех пор Орростухваль (Холм Битвы).
Вечером Торстейн приехал на Альфтанес, как и собирался раньше, и прогостил там три дня».
Среди большого количества сведений о празднике Haustboð б0льшая часть не сообщает ничего о времени его проведения, три отрывка совмещают его с Зимними ночами (возможно, территориальные или временнЫе особенности), а точно соответствуют3 современному Урожаю конца сентября только эпизод из «Саги об Эгиле» и отсылка статьи «Календарь у древних кельтов и германцев» к упоминанию Видукинда Корвейского.
Достаточно ли этого, чтобы считать Урожай восходящим к празднику Haustboð? На мой взгляд, достаточно. Но недостаточно для его воссоздания: почти ничего, кроме пиров, нам неизвестно. В «Саге о Халльфреде Трудном Скальде» из Подмаренничной Книги (она же «Книга с Подмаренничных полей» или Möðruvallabók) говорится об игре в мяч (knattleikr), и это единственная примечательная черта праздника.
Чтобы восполнить пробелы, современные асатруа черпают обрядовость из крестьянских поверий, связанных с последним снопом, распространенных в Германии и Скандинавии (Статья Сигвальда Годи «Урожай» по материалам книги «Our Troth»). Последний сноп считается местом обитания духа зерна в облике зайца или лисы, его «ловят», связывая сноп. Кроме того, последний сноп оставляют как подношение Водану, обычай, похожий на славянский, когда оставляют несжатыми несколько колосьев, называя это «Волосовой бородкой». Еще одно поверье, связанное с окончанием жатвы, дошло до нас в эддической песне «Поездка Скирнира», проклятие Скирнира, брошенное в Герд: «Будь, как волчец,//что под камень кладут,//жатву закончив!» — т.е. под камень по окончании жатвы клали чертополох.
Осенины, славянский праздник урожая, в православии перешедший в Рождество Пресвятой Богородицы, также может служить источником для обрядов праздника Урожая. На Осенины почитали Мать-сыру-землю и Рожаниц, затем культ был перенесен на Богородицу. Готовили праздничные блюда: кутью из разных круп нового урожая с мёдом, зерновой хлеб, кулебяку с рыбой, творог (сыр), студень. Кроме того, варят пиво и закалывают овцу (барана).
Подводя итоги, можно сказать, что Haustboð уместен как в конце сентября, так и в рамках Зимних Ночей. При этом в качестве самостоятельного праздника он не обладает богатой обрядовой традицией, в отличие от Зимних Ночей, и сегодня мы вынуждены многое заимствовать из родственных традиций. Выходит, единство Осеннего пира с Зимними Ночами не только исторично, но и разумно для тех, кто не хочет смешения с чужими обрядами, хотя избежать этого можно и празднуя Урожай в сентябре, просто ограничившись пиром и играми с мячом. В наши дни асатруа предпочитают отмечать Урожай, ориентируясь на день осеннего равноденствия, поскольку живут в разных климатических условиях и редко занимаются земледелием.
Источники:
1. Шервуд Е. А. Календарь у древних кельтов и германцев http ://norroen.info/arti cles/ shervud.html
2. История Октоберфеста www.oktoberfest.de/de/artide/Das+Oktoberfest/Ge... oberfests/621/
3. Статья Сигвальда Годи «Урожай» на сайте общины «Рагнар» ragnar.ru/tradition/prazdniki/47-harvest.html
4. Видукинд Корвейский «Деяния Саксов», книга 1 www.vostlit.info/Texts/rus/Widukind/frame1.htm
5. Статьи Википедии об Осенинах и Рождестве Пресвятой Богородицы и другие открытые источники.
6. Книга о занятии земли norroen.info/src/lnb/index.html
7. Сага об Эйрике Рыжем norroen.info/src/isl/eirik/ru.html
8. Сага о Халльфреде Трудном Скальде norroen.info/src/isl/hallfred/index.html
9. Сага о людях с Оружейникова фьорда norroen.info/src/isl/vapn/ru.html
10. Сага о людях с песчаного берега norroen.info/src/isl/evrbvgg/ru.html
11. Сага о людях с Лососьей долины
http ://norroen.info/src/i sl/laxdaela/ru.html
12. Сага о Гисли
norroen.info/src/isl/gisli/ru.html
13. Сага об Эгиле
norroen.info/src/isl/egil/ru.html
14. Сага о Греттире norroen.info/src/isl/grettir/ru.html
P.S. Спустя год один из бывших противников признания аутентичности Осеннего Пира собрал, сравнивая с древнеисландским текстом, еще больше сведений в пользу праздника:
1) Сага о людях с Песчаного берега, гл. 12.
Торгрим убил Вестейна сына Вестейна на осеннем угощении в Ястребиной Долине. А на следующую осень, когда Торгриму, как и его отцу, исполнилось двадцать пять лет, Гисли, его шурин, убил его во время осеннего угощения на Морском Жилье.
Þorgrímr drap Véstein Vésteinsson at haustboði í Haukadal. En annat haust eftir, þá er Þorgrímr var hálfþrítögr sem faðir hans, þá drap Gísli, mágr hans, hann at haustboði á Sæbóli.
Там же, гл. 32.
Той осенью Арнкель устроил у себя на хуторе большое угощение; у него было в обычае приглашать своего друга Ульвара на все пиры, и он каждый раз делал ему на прощание подарки.
Þetta haust eftir hafði Arnkell inni haustboð mikit, en þat var vanði hans at bjóða Úlfari, vin sínum, til allra boða ok leiða hann jafnan með gjöfum út.
2) Сага о людях из Лососьей долины, гл. 46.
Олав и Освивр оставались в дружбе, хотя между молодыми людьми дружба была порвана. Этим летом гости должны были приехать к Олаву за полмесяца до начала зимы. Освивр также созвал гостей на первые зимние ночи.
Þeir Ólafur og Ósvífur héldu sinni vináttu þótt nokkuð væri þústur á með hinum yngrum mönnum. Það sumar hafði Ólafur heimboð hálfum mánuði fyrir vetur. Ósvífur hafði og boð stofnað að veturnóttum.
(там же далее...)
Целую неделю должно было длиться празднество у Олава.
Viku skyldi haustboð vera að Ólafs.
3) Сага о Хитром Реве, гл. 11.
У Рева был большой осенний пир*, и он пригласил своих друзей...
Refr hefir haustboð mikit ok býðr til sín vinum sínum...
*Гугл перевёл haustboð как “harvest feast ”.
4) Сага о людях из Долины Дымов и Скуте Убийце, гл. 11.
И затем был осенний пир...
En þá var haustboð undir Felli að Vémundar.
5) Прядь о Тидранди и Торхалле, гл. 1, 2.
Торхалль остался там на все лето, и Халль просил его не уезжать, пока не устроят осеннего угощения.
<... >
— Не лежит у меня душа к осеннему угощению: есть у меня предчувствие, что на этом пиру убьют ведуна.
— Это я берусь объяснить, — сказал хозяин, — есть у меня двенадцатилетний бык, которого я зову Ведуном, ибо он умнее прочей скотины. Его-то и убьют к осеннему пиру, и пусть тебя это не тревожит, ибо я надеюсь, что это мое угощение, как все другие, удастся на славу.
<... >
Угощение устроили поздней осенью.
Dvaldist Þórhallur þar um sumarið og sagði Hallur að hann skyldi eigi fyrri fara heim en lokið væri haustboði.
<... >
Þórhallur svaraði: «Illt hygg eg til haustboðs þessa er hér skal vera því að mér býður það fyrir að spámaður mun vera drepinn að þessi veislu.»
«Þar kann eg að gera grein á,» segir bóndi. «Eg á uxa einn tíu vetra gamlan þann er eg kalla Spámann því að hann er spakari en flest naut önnur. En hann skal drepa að haustboðinu og þarf þigþetta eigi að ógleðja því að eg ætla að þessi mín veisla sem aðrar skuli þér og öðrum vinum mínum verða til sæmdar.»
<... >
Veislan var búin að veturnóttum.
6) Сага о христианстве, гл. 2.
Епископ и Торвальд были на осеннем празднике в Озёрной Долине на Ущельной Реке у
Олава.
Þeir byskup ok Þorvaldr váru at haustboði í Vatnsdal at Giljá með Óláfi.
(с)
К сказанному только добавила бы, что месяц haustmánaðr, когда, по-видимому, происходил Осенний Пир и осеннее жертвоприношение (haustblót, упоминается в той же Саге об Эгиле) до 1700г. начинался между 11 и 18 сентября и заканчивался в четверг между 11–17 октября (после чего шли Зимние Ночи). Поскольку маловероятно, чтобы рачительные исландцы задавали из года в год сразу два пира в один месяц, выбор времени - ближе к Равноденствию или к Зимним Ночам, мне кажется, определялся удобством хозяев. При этом, похоже, Зимние Ночи (начало зимы) выбирали чаще.
(источник - А. Бьёрнссон, Исландские праздники, Е.Шервуд, Календарь у древних кельтов и германцев).
---------------------
И немного астрономии на закуску. С астрологией.

Равноденствие в 2015 году приходится на 23 сентября 8ч.20м. по Гринвичу (23 сентября 11ч. 20м. по Москве).
При этом оно входит в целую череду астрономических (и астрологических) событий.
При этом 13 сентября было новолуние и частичное затмение Солнца, на 21 сентября приходится первая четверть, полнолуние выпадает на 28 сентября и сопровождается лунным затмением. Из-за него Луна получит статус «кровавой» (окрашенной в красноватые оттенки из-за прохождения солнечных лучей через земную атмосферу прежде, чем осветить диск Луны: при затмении луна остаётся освещенной и не пропадает с небосвода). Начнётся лунное затмение в ночь с 27 на 26 сентября в 3:11 (Мск), первые признаки покраснения диска ожидаются в 4:07, а полностью она должна сменить свой цвет около 5ти утра. При этом, Кровавая Луна будет одновременно «суперлуной», луной, чей диск кажется больше обычного на 14%. А ещё это ночь с воскресенья на понедельник.))
(источник)
Астрологи, кстати, много ждут от периода, который именуют «Коридор затмений» — между частным солнечным затмением 13 сентября и лунным затмением 28 сентября. Приятно, что ожидания эти группируются вокруг возможностей поправить свою материальное и семейное благополучие. К Урожаю и это лыко в строку.

(Всякое разное астроло-энерго-психо-логическое)
Удачи всем, когда бы ни праздновали!
@темы: Урожай
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
Слово авторам и интервьюируемым:
Праздник Урожая не за горами, поэтому мы решили узнать, как общины отмечают его и какое место в их жизни он занимает. Ответы дают целую палитру представлений об Урожае в русскоязычном асатру, и, возможно, читатели почерпнут в них идеи или найдут близкую им позицию.
Как вы будете отмечать Урожай?
Соберемся общиной на природе, постараемся найти место с тремя элементами ландшафта - источник воды, поле и холм/курган. Мы проведем обряд похорон Бальдра, поблагодарим Фрейра, Фрейю и Ньёрда за лето, поприветствуем начало холодного времени. Из асов мы почтим Одина, потребность в блоте кому-либо еще определим на месте. Отдельный элемент обряда - раздел урожая, мы стараемся брать все собственное (собственноручно сделанное пиво, хлеб, мед с пасеки родственников и т.п.).
Сигурд, годорд Скидбладнир
читать дальше Как обычно: соберемся на капище в лесу, поднесем дары, вознесем хвалу, пустим рог по кругу. И, поскольку наша община имеет магическую специализацию, то планируется сотворить древнеанглийское "Заклинание девяти трав" (Nigon Wyrta Galdor). Целью ритуала является приготовление колдовского снадобья, по сути - волшебного мыла с травами. Над каждой травой читается соответствующая часть заклинания, после чего они смешиваются с мыльной основой. Кусочек такого мыла можно носить и просто при себе в качестве амулета в мешочке или же использовать его по прямому назначению, принимая ванну. Помогает в поддержании здоровья, излечении - перед зимой это особенно актуально. Основная сложность заклинания - это даже не его размер (оно довольно объемное), а собственно сам перечень трав: по некоторым из них имеются разночтения, поэтому чтобы его уточнить для собственной практики пришлось поэкспериментировать. И, если говорить о самом тексте заклинания, то, скорее всего в будущем, я все же переведу и его на прагерманский язык унификации ради с соответствующими модификациями христианских вкраплений - пока что большую проблему представляют собой непереводимые (спорные) имена некоторых упомянутых в заклинании трав.
Эйнар, годорд Ярнвид
Лично я в даты Урожая с годордом не встречусь, потому проведу сама блот. Пойду в лес, освящу место, призову богов. Соберу снопик, принесу его в жертву (или оставлю на земле, или спалю). Попрощаюсь с Бальдром. Выпью пива, пролью его на землю/в костер. А годорд отметит то же, только развернутее и группой. На Урожай у нас принято звать Одина и асов, Фрейю и ванов, а также прощаться с Бальдром. Ваны для меня — это сама природа, а умирающий Бальдр для нас олицетворяет ослабевающее Солнце, осень дает о себе знать в Урожай: уже довольно явно, холодает, день становится короче, чем летом.
Представитель годорда Иггдрасиль
Символизм праздника коррелирует с его названием: это завершение характерной «летней» деятельности, сбор ее результатов и переход к «зимней». Поэтому мы с членами общины и единомышленниками соберемся, чтобы совершить воздаяние богам за помощь в обретении того, чего мы смогли добиться за лето: каждый - своим за свое. Мы провожаем лето ритуальными «похоронами Бальдра» и праздничным пиром. Детали обряда еще будут обсуждаться с его участниками.
Сигвальд, община Рагнар
Праздник Урожая ставит точку в недолгом северном лете. Приближается время, когда земля уже не будет родить, а люди, собрав нужные запасы, будут ждать приближения зимы. В качестве подношения богам уместны сноп колосьев, яблоки, как сезонные плоды, сладкие пироги. Праздник предполагает большой пир, на котором, в первую очередь, в честь ванов, подателей земных благ, читаются прославления и перечисляются их подвиги, например, победа Фрейра над великаном Бели. Ритуальным мясом, которым освящаются присутствующие на обряде, чаще всего выступает свинина, в честь вепря, на котором путешествует Фрейр. Урожай подводит предварительные итоги календарного года, в это время уместно во время публичного славления в круге поблагодарить богов за успех лета, поделиться с ними его частью, и попросить храброго Тора защищать зимой людей от йотунов. Как подношение Тору будет уместен вылитый на землю или в костёр полный рог пива. Отдых от летних трудов помогут выразить игры, танцы, борьба-глима, игра на многочисленных музыкальных инструментах - луры, барабаны и т.п.
Торри, община Тротборг
Моя главная задача - почтить богов. Сам праздник предрасполагает чтить ванов (тем более месяц Ньëрда не за горами). Каких либо особых ритуальных действий я никогда не планирую (но бывает, что всë происходит в ходе мероприятия). Отдельных божеств по праздникам во время действа стараюсь особо не выделять, но уделяю внимание всем по отдельности.
А обычно (и я сейчас опишу описание скорее будничный обряд) у меня происходит вот так: Идя на капище, я беру с собой горн и варган. Взбираюсь на самый высокий из камней и трублю в рог. Таким образом я оповещаю Духов о своëм присутствии и зову их. Далее я откладываю рог и беру варган. Да, в дар Духам я преподношу музыку. Причëм не какую-либо заученную мелодию, а то, что играется здесь и сейчас. Моя мелодия во многом зависит от настроя, настроения, от цели моего прихода и т.п. Лучше всего идти одному. Создаëтся интимная обстановка единения с местом и его обитателями, а так же получается более плотное "общение". В случае если я оставляю что-либо из пищи, то часть еë я разделяю (съедаю) с теми, для кого преподнесëн дар. Для меня это символизирует годность продуктов (ибо абы что я есть не буду) и опять же "общий стол".
Часто я ничего не прошу. Ведь встречаясь с друзьями в жизни, по итогу всегда ли что-то просите у них? Здесь у меня такое же отношение. Я просто "прихожу к друзьям", благодарю их за гостеприимство, не прося взамен ничего.
Представитель Крымского Круга Трота
Какое место в вашей вере и практике занимает аграрная сторона праздников? Как вы ее адаптируете/переосмысляете?
Очень важное, я работаю в сфере пищевого производства, сам варю пиво и планирую двигаться в сторону сельскохозяйственного дела. Но главное в осознании аграрного цикла в современном язычестве это, конечно, сам цикл, который может быть применим к чему угодно. Лето для меня - время активной работы, осень - время получения наибольшего отклика от этой работы. Я начинаю проекты весной, делаю летом и получаю с них доход осенью, а зимой отдыхаю.
Лето — это время активной работы с внешним, явным миром. Зима — время работы с миром внутренним. Важно понимать когда что происходит в мире и соотносить с этим свою жизнь.
Сигурд, годорд Скидбладнир
Почти что и никакой - собственно, я не отмечаю сам праздник Урожая, а ориентируюсь на то, что это день равноденствия. Я рассматриваю всего четыре праздника - зимнее солнцестояние (его же называют Йолем, хотя Йоль - это не один день), летнее солнцестояние (середина лета, Мидсумар) и два равноденствия. Эти даты мне интересны не столько в плане праздничного веселья, сколько как точки-ориентиры, например, Мидсумар хорош для защитных обрядов, отрезок между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием наиболее подходящий для различного сорта проклятий и т. д. Словом, аграрная сторона праздника меня мало интересует, уже хотя бы потому, что я не фермер. Если бы я жил на земле, вел хозяйство, пахал-сеял-собирал, проще говоря, непосредственно зависел от урожая, то было бы другое дело.
Например, есть такой ритуал Æcerbot, "Заклинание неплодородной земли", а в буквальном переводе: Æcer - "поле", bot - "помощь, исцеление, избавление от зол". Это исключительно сельскохозяйственный ритуал и его исполнение для не-агрария ни смысла, ни возможности не имеет.
Вместе с тем, одна из частей этого ритуала содержит славление Матери-Земли ("Эрке, Эрке, Эрке..." и "Здрава будь, земля, мужей мать" etc) и этот отрывок актуален для любого человека, аграрий он или нет, т.к. мы все - дети Земли и в общем смысле зависимы от нее, даже если лично не участвуем в ее возделывании.
В любом случае, необходимо обладать глубоким пониманием природы того, чему/кому ты поклоняешься и это понимание не должно быть плодом чисто умственных заключений - нет, оно должно прийти через опыт соприкосновения.
Эйнар, годорд Ярнвид
Насчет аграрной стороны - я скорее сосредоточена на общих природных циклах и пытаюсь придерживаться их. Сельскохозяйственной работой я не занимаюсь, да и не умею. С другой стороны, если отношение отстраненное, то лучше вообще ничего не проводить, ибо зачем? В любом случае человек включен в природные циклы, он может этого не замечать, сидя постоянно за компьютером, к примеру.
Урожай отчасти — это подведение итогов. Но вообще их подводят в конце года. Понятие сбора урожая никуда не исчезло, оно даже закрепилось в языке как метафора. В ней же говорится не о хлебе, к примеру, а о том, чего человек достиг за какое-то время. На обрядах происходит осознание и подведение итогов, сначала промежуточное и потом последнее в году.
Представитель годорда Иггдрасиль
Поскольку моя жизнь не связана с сельскохозяйственной деятельностью – конечно место символа, вполне универсально подходящего для описания принципа природного жизненного цикла. Моя деятельность в течение года имеет выраженные сезонные черты, подобно природному циклу, а потому может быть символически отождествлена с ним. Например, применительно к грядущему празднику - я не собираю в это время урожай в поле, но грибничество – пожалуй мое любимое осеннее занятие.
По отдельным сферам – заканчивается сезон со сменой характера деятельности в одной и появляются результаты полугодовой работы в другой. Это очень значительный момент в моей жизни, также совпадающий с прекрасным астрономическим явлением – Равноденствием, что привносит изрядную долю мистической красоты в этот праздник, который я для себя считаю нужным отмечать. Когда на праздник собирается община, то в числе прочего неплохим занятием может стать коллективное обсуждение его индивидуальных черт, актуальных для каждого присутствующего через призму его жизни.
Сигвальд, община Рагнар
Учитывая, что мы весьма далеки от быта предков-земледельцев, для кого смена сезонов была гораздо ощутимее, акцент на аграрный характер культа в современном Асатру делать, на мой взгляд, не стоит. Уместны обряды, которые соответствуют общему символизму праздника - первая вспашка/борозда в году в Майский день, последний сноп года на Урожай или хлебы на Фрейфакси, сезонные фрукты как дар богам и т.п.
Если говорить о частном культе, то для меня, как турсопоклонника, аграрная сторона не имеет особенного значения, но она помогает ощутить движение года, цикличность сезонов, и, что важнее, приход зимы.
Торри, община Тротборг
В этом смысле мне проще. Я сельский житель. У меня есть огороды немалых размеров (понимаешь это когда приходится вскапывать). Вот и на алтарь я всегда стараюсь приносить всë своë (на урожай у меня целая корзина даров с огорода)
Представитель Крымского Круга Трота
UPD.Сегодня мы можем дополнить опрос ответами Бьорна из Нагльфара:
Ответы согласованы с годи Торстейном общины Нагльфар.
Как вы будете отмечать Урожай?
Собираемся на своем месте, отведенном под праздники. Женщины общины готовят все к пиру, мужчины готовят место. Разжигаются (от кремния) два костра -для живых и для мертвых. В один бросаются дары богам с просьбой о защите и благословении текущей зимой. Другой - для Бальдра и духов зимы. В него бросаются подарки для богов и духов
зимы. Мы решили разграничить эти два дейстия - ибо момент переходный и очень важный. Годи трубит в рог о начале обряда, все собираются. Естественно поприветствуем богов и вознесем им хвалу, представимся(делается это всегда так же и для того,чтоб представить богам новоприбывших) и пустим рог по кругу. На урожай также обычно делается кукла Бальдра и на иммитации Драккара отправляется к Хель, ибо не будем забывать,что это время скорби для Фригг. На драккар кладутся подарки Бальдру - цветы, травы, все то,что цветет последним. Также вместе после проводов Бальдра в погребальном костре сжигаются отжившие амулеты, ритуальные предметы или рунные плашки. Еще в этот костер бросаются записки с болезнями и бедами, от которых мы бы хотели избавиться(на бересте). Ну и подарки и откупы для суровых властителей зимнего периода.
У богов часто просим друг за друга, не просить ничего я считаю неправильным, раз уж мы обращаем на себя взор богов - они не должны быть отвлечены от своих дел впустую. Это также признак уважения по отношению у ним и признание их силы. Тот же принцип отдаривания должен быть соблюден, приглашая богов в гости и не прося ничего взамен - мы ставим их в несколько неловкое положение. Также в этот праздник берем сноп злаков символизирующий "последний сноп", украшаем его ленточками и ставим на праздничный стол, дабы духи последнего снопа пировали с нами. На столе - яблоки(связаны с сюжетом о похищении яблок у Идунн), домашняя выпечка, по возможности последние дары природы - грибы, кое какие ягоды, мед. В дополнение иногда может быть травяной чай или настойка на травах. Так как все обряды проходят иногда напряженно, один из общины - что назначается годи - занимается увеселительными конкурсами, играми и прочим.
Какое место в вашей вере и практике занимает аграрная сторона праздников? Как вы ее адаптируете/переосмысляете?
Во-первых, аграрная сторона никуда и не делась. Мы также едим хлеб, мясо и продукты, выращенные на земле. Потому благодарить богов за урожай - вполне естественно, пусть даже он попал к нам через третьи руки. А у многих есть собственный участок или частный дом, так что и тут благодарность уместна. Опять же, мы все трудимся, а праздник Урожая еще и награда за проделанную работу за год, подведение итогов. Все,чего мы достигли за весь год - этим мя делимся друг с другом и радуемся за успехи товарищей.
Еще один важный момент, у многих из нас предки были землепашами и благодаря их труду мы сейчас живы. Этим праздником мы отдаем честь и хвалу и им. Опять же почитая "дух зерна" мы приносим к себе в дома благососнояние и благополучие. Еще на Руси считалось,что при сборе колосьев, духи перебегают от одного колоса к другому и в итоге все они остаются в последнем снопе. Эти духи - дают процветание и благополучие семьям.
(c)
------------------------------------------------
И
читать дальше
Судя по всему, Бальдр оказался прочно (и, вероятно, уже навсегда) связан с образом умирающего и воскресающего бога. Строго говоря, к скандинавской (германской) языческой традиции эта мифологема отношения не имеет. Родилась она в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, воплощением её могут быть Таммуз, Адонис, Аттис. Главный признак божеств этого круга - связь с циклами природы, с растительностью, уход из мира живых зимой и воскрешение-возвращение летом.
Но Бальдр пока не возвращался. Более того, его возвращению должны предшествовать — ни больше, ни меньше — Последняя Битва и гибель нашего мира. Даже с обещанием мира нового, прекрасного и обновлённого, много раз подумаешь, торопить ли такую «весну».
 Не относится Бальдр и к божествам мессианского толка, он не приблизит, хранимый Хель, Рагнарёк, не примет участи в создании нового Мидгарда и Асгарда.
Не относится Бальдр и к божествам мессианского толка, он не приблизит, хранимый Хель, Рагнарёк, не примет участи в создании нового Мидгарда и Асгарда. Бальдр и Хёд — грядущие наследники чертогов на Идавёлль, залог того, что путь богов не прервётся, символ того, что прежние распри потеряют смысл и будут забыты. Возможно, история Бальдра — действительно, как говорят исследователи, отражение воданического жертвоприношения. Возможно, путанник Саксон Грамматик не очень напутал, и история Бальдра и Хёда — это история борьбы героев за деву-награду... Но нет никаких намёков на связь Бальдра с расцветающей каждый год природой, никто от него не ждал урожая, и как писал Снорри, хоть «он [Бальдр] самый мудрый из асов, самый сладкоречивый и благостный. Но написано ему на роду, что не исполнится ни один из его приговоров». И «ресница Бальдра» (что-то из маргариток) не говорит о нём, как о боге растительности, ведь была и «борода Тора».
Истоки современного переосмысления образа сына Одина, как мне кажется, в Викке, откуда пришло в Трот немало народу. Люди просто искали привычный шаблон, и нашли его, не особо вникая в суть (благо Викка позволяет объединять всё со всем, и горе деталям!
 ). А поскольку мифологема выразительна, наглядна и всем знакома с детства, она легко прижилась. Как прижилась когда-то у греков, изначально, по-видимому, обходившихся без неё. Точнее, без «мужской» её версии.
). А поскольку мифологема выразительна, наглядна и всем знакома с детства, она легко прижилась. Как прижилась когда-то у греков, изначально, по-видимому, обходившихся без неё. Точнее, без «мужской» её версии.Плохо ли это? С моей точки зрения, не слишком нужно.
Боюсь, однако, что горевать поздно, этой пролитой воды не соберёшь. В каком-то смысле любое событие Мифа вне-временно и длится вечно — в «здесь и сейчас». И смерть Бальдра на взлёте его силы и славы, в Золотой Век асов, и его похороны, и даже восстающая из моря зелёная земля с колосящимися без посева полями. Так что совсем уж непоправимого противоречия с традицией всё же нет, хотя переосмысление немалое.
И нам с этим жить, по видимому.
Зато имеем кусочек ответа на вопрос, что происходило бы с язычеством, если бы традиция не прервалась тысячу лет тому. Вот что-то в этом роде, видимо, и происходило б.
@темы: Урожай
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
Последнее время заинтересовался британским фольклором. Нашел очень много интересных мифов, связанных с кладбищами.
Что такое Church Grim? Это персонаж английского фольклора - хранитель кладбища в виде черной собаки.
В ранние годы христианства существовала традиция хоронить жертвенное животное под фундаментом новой церкви. Понятно, что традиция скорее языческая, но однако она крепко укоренилась и в новой религии. Подобной жертвой хотели подарить зданию долгую жизнь. Но у животного были и иные обязанности.
Вокруг церкви всегда появлялось кладбище. И у каждого погоста должен был быть хранитель. У язычников подобным занимался первый похороненный на новом месте. Он должен был охранять некрополь от ведьм и прочей нечисти. В северной Ирландии должность была передающаяся: хранителем становился новый покойник до последующих похорон кого-либо.
Чтобы оберечь душу человека от такой непосильной работы, люди стали хоронить в северной части кладбища животное.
читать дальшеТакая традиция существовала не только в Британии, но и в других странах:
Швеция - Керкегримм - ягненок.
Дания - кладбищенская свинья.
Ниссы водятся также и в церквях. Те ниссе, которых называют киркегримами, обитают либо в колокольнях, либо в другом месте церкви, где могут найти убежище. Киркегримы поддерживают порядок в церкви и наказывают за любой учиненный в ней скандал.
В церкви Соро есть большое круглое отверстие в крыше, в котором обитает ниссе этой церкви. Об этом отверстии рассказывают также, что в прежние времена через него вылетел нечистый, когда священник произносил при крещении: «Изыди, сатана!» из народных легенд Дании.
Норвегия - ниссе. Говорят, раньше они жили почти во всех церквях Норвегии. Домик такого ниссе, напоминающий большое гнездо, может находиться в дыре в полу слева от входа в церковь, или на церковном чердаке, или на колокольне. Спит он в старом башмаке звонаря. Каждую субботу церковный ниссе вытирает пыль со скамей и кафедры, моет полы и выметает паутину из углов. Кроме того, он следит за тем, чтобы мыши не прогрызали дыры в органных мехах. Единственное, чего не любят церковные ниссе - это колокольный звон. Поэтому в день службы они или стараются уйти подальше от церкви, или остаются сидеть у входа, но закрывают уши руками, и, сидя так, приветливо кивают прихожанам
В Британии же это была черная собака - Жуть-с-церковного-двора.
Ее часто путали с другим призраком черной собаки, которая предвещает смерть того, кто ее увидит. Вообще образ собаки очень популярен на Британских островах.
Священник на похоронах может увидеть, как Жуть выглядывает с колокольни. Считалось, что по особым признакам Жути священнослужитель мог определить, куда направляется душа ново представившегося: в ад или рай.
маленькая статья на тему:
Согласно одному широко распространенному поверью, кладбища от ведьм и от нечистого охраняет дух, который является в обличье черной собаки. Те, кому случается его видеть, обычно принимают его за предвестника смерти. Именно он, указывает на связь между духом — хранителем кладбища и животным, принесенным в жертву при его основании, и указывает на то, что шведский Кёркегримм появляется в виде ягненка потому, что в Швеции в дни раннего христианства было принято зарывать под алтарным камнем ягненка, тогда как в Дании жертвенным животным обычно служила, так называемая, кладбищенская свинья. В Йоркшире жуть-с-церковного-двора можно видеть неподалеку от церкви не только ночью, но и днем в дурную погоду. Иногда в полночь жуть звонит в колокол, и это всегда предвещает близкую смерть, а во время похорон священник, если приглядится, может увидеть, как дух выглядывает с колокольни, и по его виду судить, попадет ли покойный в ад или в рай.
Существовало поверье, согласно которому первый покойник, похороненный на новом кладбище, и должен был охранять его от дьявола. Чтобы спасти человеческую душу от такой участи, в северной части кладбища хоронили черного пса без единой отметины, на которого и возлагалась эта обязанность. Аналогичное верование было распространено и в Северной Шотландии. Только шотландцы верили, что, наоборот, последний покойник, похороненный на кладбище, должен охранять его до следующих похорон.
BARGUEST, bargtjest, bo-guest, bargest (баргест) - в фольклоре Северной Англии злобный дух или хобгоблин; предвестник смерти или несчастья, чаще всего предстает в виде чёрного пса.
BLACK ANGUS (Чёрный Ангус) - чёрный пёс, предвестник смерти из Северной Англии.
BODACH (бодах) - в шотландском фольклоре потустороннее существо; в различных ипостасях: предвестник смерти, проказливый хобгоблин и боуги.
CAOINEAG, caoidheag, caointeach ["weeper"] (кинег, кидег, киньчех ["плакальщица"]) - названия банши в Шотландском Нагорье. Обычно кинег встречали вблизи водоемов, и по одним поверьям она невидима как валлийский кихирет, по другим напоминает бен-нийе ("прачку"). Свои фамильные кинег были у многих шотландских горных кланов: Макдональдов, Маккеев, Макмилланов, Фаркухарсонов, Мэтисонов и прочих.
CYHYRAETH (кихирает, кихирет) - валлийский дух-предвестник смерти, подобный ирландской банши; чаще всего описывается как бестелесное или невидимое существо, издающее гнетущие предсмертные стоны.
CWN ANNWN (кун аннун) - валлийская "дикая охота"; псы предвестники смерти.
GABRIEL RATCHETS, Gabble Raches, Gabriel's Hounds (Гавриловы трещотки, Гаврилова свора) - название "дикой охоты" в Северной Англии; предвещает смерть.
HELL-HOUND, Hell-beast, Churchyard-beast, "The Hateful Thing" (адская гончая, адский зверь, кладбищенский зверь, "злобное нечто") - существо, преследовавшее жителей нескольких деревушек на границе Саффолка и Норфолка.
SKRIKER, shriker ["screamer"], brash, trash (скрикер, шкрикер, "ревун", брэш, трэш) - чёрный пёс из Ланкашира в Англии; предвестник смерти.
WAFF, waft (вофф, вофт) - йоркширское название двойника-предвестника смерти.
На Руси тоже не отстали.
В церквях обитают не только священники и пономари. И даже не только прославленные своей бедностью церковные мыши. По твердому убеждению русских людей, в православных храмах жило и несколько иное население.
ЦЕРКОВНИК - дух, появляющийся в церкви или у церкви; появляющийся в церкви покойник.
Согласно традиционным представлениям, в церкви часто являются разнообразные сверхъестественные существа; мертвецы и нечистые могут по ночам отправлять в церкви свои службы. "Многие из здешних крестьян верят, что нечистая сила живет даже при церквях, в особенности на кладбищах, а также на мельницах, в казенных зданиях, например, в училищных..."
Тем не менее, сверхъестественные обитатели церкви редко именуются в поверьях церковниками. По имеющимся пока материалам, такое название отмечено на Русском севере, и под ним подразумевается покойник (дух предка), привидение, появляющееся чаще всего на церковной колокольне. Церковник имеет облик старика, человека в белом (в белой шляпе) и в обще сходен с колокольным маном.
Так говорит любопытнейшая книга "Русские суеверия" Марины Власовой (СПб, "Азбука", 1998, с.525).
Колокольный ман - это нечистый дух, вселившийся в тело мертвого колдуна, из тех, кого не принимает земля после смерти. Если в полночь забраться на колокольню, можно увидеть его сидящим в углу, в белом колпаке. Сорвешь с него колпак - будешь маяться всю жизнь: каждую ночь колокольный мертвец будет ходить под окнами, прося надеть колпак, а станешь надевать - тут и придушит злой колдун. Колокольным мужиком называется также привидение, боящееся колокольного звона и падающее вниз во время первых трех ударов набата, - поэтому многие осеняют себя крестным знамением только при четвертом ударе.Вообще колокольни считали местами страшноватыми, особенно ночью, а сами удары колокола наделялись волшебной силой. Не зря же колокольным звоном разгоняли градовые тучи, а больного или испорченного человека ставили под колокольный звон в надежде, что обуявший его нечистый дух не выдержит и убежит. Ночью церкви, часовни, колокольни служили прибежищем упырей, живых мертвецов и чертей, исчезающих с первым криком петуха. В некоторых местах, к примеру, было принято креститься только при третьем ударе колокола, потому что на звоннице якобы находится черт, который сидит и крепится, но при третьем ударе падает на землю.
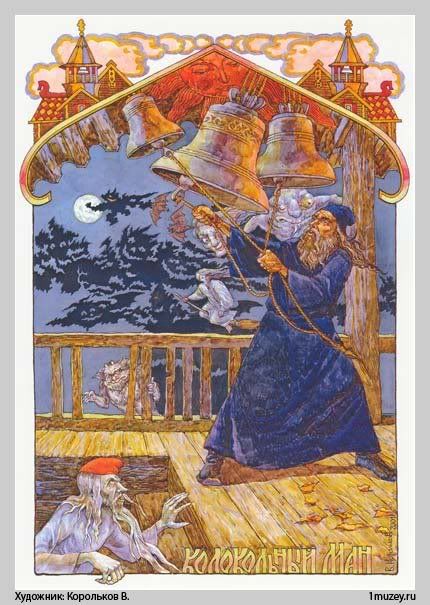
Есть и забавный персонаж - Bogey-Beast.
Это привидение в виде скелета. Человеку навредить не может, но ему очень скучно, поэтому запоздалого путника любит попугать, бегая за ним с криками: "Отдай мне мои кости".

И, конечно же, Banshee (и Ночные прачки)
Согласно поверьям, баньши могут принимать любой облик - облака, тени, куста, девушки и т.п. До сих пор многие верят, будто их заунывный плач, называющийся Киэнинг и слышный по ночам, непременно предвещает близкую человеческую смерть. Автор "Демонологии и колдовства" сэр Вальтер Скотт полагал, что баньши не столько существо, имеющее облик, сколько зловещий смертный вой, наполняющий ужасом ночи Ирландии и нагорья Шотландии. Люди представляют баньши женщиной с длинными распущенными, черными волосами, в просторных одеяниях, с припухшими от слез глазами, или в облике мерзкой и уродливой старухи со спутанными седыми волосами. Фея баньши может быть и бледнокожей красавицей в длинном саване, а иногда может являться в образе рано умершей невинной девы - родственницы семьи. Заколдованный лес из артуровской легенды был населен прелестными феями. Одна из них, Жестокосердная дама, волшебница-искусительница, описанная поэтом Дж. Китсом, была баньшей, которая завлекала смертных странствующих рыцарей, вселяя в них безрассудную страсть, а потом оставляла их, лишенных воли к жизни, бродить по холмам "в угрюмом одиночестве и без смысла".
-О Банши-Имена банши
Банши в различных частях Ирландии называют по-разному. Общепринятым и повсеместно распространённым именем является ирл. bean sí, состоящее из bean — женщина, и sí — Ши, что вместе переводится как «женщина из сидов», из потустороннего мира. Наряду с общепринятым обозначением, во многих районах острова для банши имеются и свои, локальные имена, причём в некоторых районах острова до сравнительно недавнего времени применялось только локальное название.
Так, в графствах Лимерик, Типперэри и Мэйо обычным является имя ирл. an bean chaointe, что дословно обозначает плачущую женщину, плакальщицу. В юго-восточной части Ирландии имя банши образовано от ирландского слова badhbh (бадб), обозначающего агрессивную, страшную и опасную женщину. В средние века в Ирландии именем badhbh часто называли богинь войны. В графствах Лиишь, Килкенни и Типперэри распространено имя boshenta (бошента), производное от badhbh chaointe. В Уотерфорде банши называют bibe — байб. В Карлоу, Уэксфорде, а также на юге графств Килдэр и Уиклоу распространено имя bow — бау.
Происхождение образа банши
Банши, как полагают специалисты по ирландскому фольклору, не имеет прямых аналогов в верованиях других народов. Однако в бретонском фольклоре есть нечто схожее с банши — вестник смерти Анку, также подобные персонажи встречаются в валлийской мифологии. Это даёт основания предполагать, что образ банши уходит в древнюю кельтскую мифологию. Патриция Лайсафт, профессор Дублинского университета, посвятившая более 20 лет изучению образа банши в фольклоре, отмечает, что носители традиций практически не задумываются о происхождении банши, а воспринимают её как данность. Тем не менее, ей удалось сформулировать следующие представления о происхождении банши:
Фея
Весьма распространено мнение, что банши нечто вроде феи (fairy), такое объяснение встречается в некоторых литературных произведениях XIX и начала XX веков. Однако в настоящих народных преданиях о банши такое отождествление дается очень редко. В ирландской народной традиции феи — существа общественные, живут сообществами и ведут образ жизни, схожий с человеческим. Тогда как возвещающая о смерти банши — существо одинокое и все её отношения с человеческими существами определяются её связью со смертью.
Призрак
Большее распространение имеют следующие версии: банши не что иное, как призрак (дух) женщины-плакальщицы, так как оплакивание и рыдание одна из ее характерных черт. Некоторые ирландцы верят, что если плакальщица не выполняла свои обязанности подобающим образом, то и после смерти она продолжает оплакивать умирающих.
Покровительница рода
Одним из центральных аспектов легенд и преданий о банши является представление о том, что банши — это дух-покровитель той семьи, которую она оповещает о смерти, то есть между ними есть наследственная связь, это может быть также прародительница семьи.
По поверьям, банши есть не у всех ирландцев. В устных и литературных источниках семьи, смерть в которых возвещает банши, обозначаются как семьи с «О'» и «Мак», то есть считается, что банши сопровождает истинно ирландские семьи. Однако список фамилий таких семей гораздо шире, так как включает также семьи, происходящие от викингов и англо-норманнов, то есть семьи, которые поселились в Ирландии до XVII века.
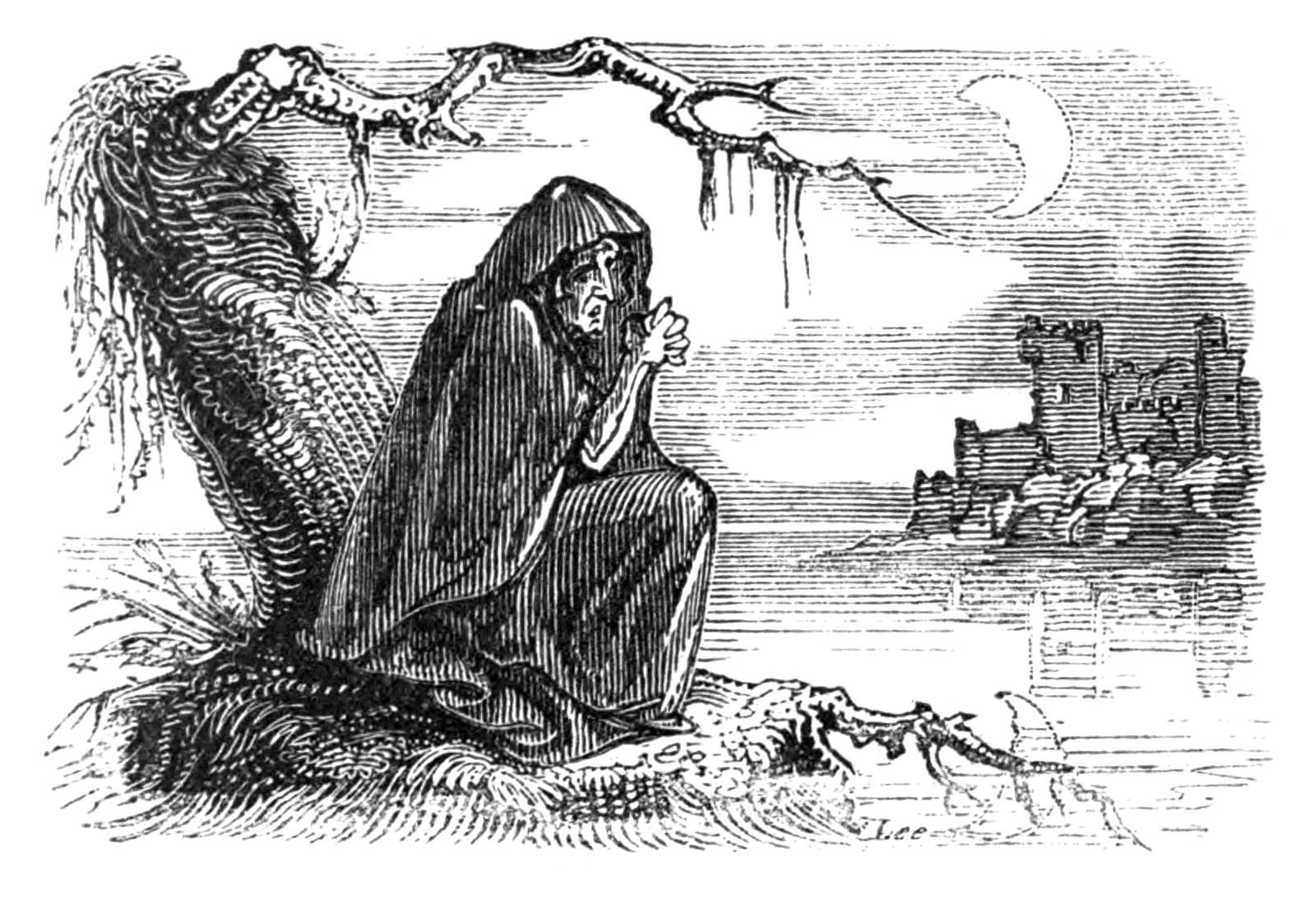
Облик банши
Что касается описания внешнего вида банши, то тут мнения диаметрально противоположны. Одно остаётся неизменным — женский образ. Существует некий романтический образ банши, в основном в рассказах для детей, что это молодая прекрасная женщина с длинными белокурыми или золотыми волосами в длинном белом плаще с капюшоном. Банши описывают также как маленькую старушку, но опять же с длинными волосами, белыми или седыми. Вообще длинные волосы — это такая же отличительная черта банши, как и её крик. Реже встречается описание чёрных или тёмных волос банши, также как и тёмных или цветных одежд, так как совершенно очевидно, что в сумерках или темноте, времени, когда появляется банши, её проще увидеть именно в белом плаще и с белыми, часто седыми, волосами, что также подтверждает легенду о банши-старухе. Что касается головного убора, то он упоминается крайне редко, так как он был бы неуместен ввиду длинных развевающихся волос. Так как плащ банши в основном доходит до пят, обувь также упоминается крайне редко. Некоторые носители традиции считают, что она ходит босой.
Банши в легендах
Данный раздел является неупорядоченным списком разнообразных фактов о предмете статьи.
Пожалуйста, приведите информацию в энциклопедический вид и разнесите по соответствующим разделам статьи. Согласно решению Арбитражного комитета Википедии, списки предпочтительно основывать на вторичных обобщающих авторитетных источниках, содержащих критерий включения элементов в список.
Встречающиеся легенды о встречах людей и банши весьма разнообразны по изложению, но объединены единым мотивом: встреча с потусторонним — опасна. Среди всех сказаний чётко выделяются три сюжета:
Мужчина ночью встретил банши, принял её за обычную женщину, попытался её обидеть. Банши отталкивает его и в наказание оставляет на его теле неуничтожимый след своей ладони или пальцев.
Мужчина, встретивший банши за стиркой, посмеялся над ней и сказал, чтобы она и его рубашку постирала. В результате банши может как незаметно снять с него рубашку и действительно постирать, так и задушить мужчину его же воротником.
Возвращающийся домой путник встречает банши, расчёсывающую волосы костяным гребнем. Он заполучает гребень и относит его домой, однако затем банши приходит за своей вещью и, угрожая, требует её вернуть. В итоге она получает гребень, демонстрируя при этом, что всё вполне могло закончиться куда хуже.
Говорят, что баньши плачут лишь по скорому покойнику из знатного рода, а плач нескольких сразу знаменует смерть кого-то великого.

Баньши. Эдвард Мунк.
Глава из книги Патриции Лайсафт и Татьяны Михайловой "Банши: фольклор и мифология Ирландии" (М.: ОГИ, 2007):
Банши и другие вестники смерти кельтского фольклора: суть и смысл «плача» как «послания»
Наиболее яркой фигурой, которая может по популярности своей соперничать с ирландской Банши, является, безусловно, бретонский Анку – скелет, который не только извещает о смерти, но и сопровождает умершего в Иной мир. Анку образ сложный, уже хотя бы по той причине, что персонаж это мужской, и поэтому все приведенные нами рассуждения об универсальной фигуре «пожирающей матери» к нему, вроде бы, не применимы. Анку – вопрос особый, именно поэтому мы решили вынести рассказ о нем в отдельный раздел (см. Приложение). Но аналогичные, или хотя бы – близкие банши фигуры сверхъестественных вестников смерти, которые одновременно являются и ее олицетворениями, присутствуют и в фольклоре валлийском[1].
Так, наиболее близким аналогом ирландской Банши может быть названа сверхъестественная женщина, носящая имя Gwarch Y Rhibyn (Гурах-и-рибин, букв. “старуха полосы”). Второй компонент названия представляет собой проблему, видимо, в данном случае под «полосой» подразумевается некое промежуточное пространство между этим миром и миром Иным, так сказать, «нейтральная полоса», где обитает существо, способное находиться одновременно в двух мирах. Данная интерпретация, как нам кажется, маркирует принципиальное отличие Гуарх от Банши, которая, если судить чисто по языковым данным, является генетически «женщиной сида», «женщиной из волшебного холма». Однако, повторяем, данная интерпретация имени персонажа носит скорее предположительный характер.
Данная фигура, надо отметить — изученная гораздо меньше, чем Банши, также, видимо, как полагал еще Дж.Рис, восходит к образу языческой богини-первопредка [Rhys 1901, 454], однако, как можем мы предположить, отделение нуминозного начала от эротического в традиции бриттской произошло в гораздо более законченной форме, чем в гойдельской, и поэтому характерный для ирландского нарратива образ puella senilis в валлийском фольклоре, как и в ранних преданиях, практически не встречается. Впрочем, надо отметить, что лишенной эротического начала изображается обычно и фольклорная Банши.
Видимо, прототипом Гурах могут служить персонажи типа старухи по имен Каридвен (Керидвен, возм. к Cerydd Gwen ‘белый упрек’?) из повести о Талиесине: она знает секрет высшей мудрости и варит в течение целого года в огромном котле «экстракт знания», которым собирается одарить собственного сына. Мальчик по имени Гвион Бах случайно первым пробует эту смесь и мудрость достается ему (ср. предание о Финне и «лососе мудрости», а также архетипический мотив о похищении демиургом у хтонического божества некой магической субстанции типа «меда поэзии»). Другим, отчасти параллельным Гуарх образом из нарративной традиции была в свое время [Sikes 1880, 219] названа странная «дева», которая в мабиноги Передур исполняет функции медиатора между этим миром и миром Иным, где находится замок Чудесной головы (одна из манифестаций Грааля):
И тут они увидели кудрявую деву, вид которой был крайне уродлив. Она ехала на желтом муле, подгоняя его хлыстом. Лицо ее и руки были черны, как сажа, а облик ее был страшнее, чем сама тьма. Щеки у нее были раздуты, лицо было длинным, кожа не нем висела мешком, нос ее был коротким, а ноздри — широкими. Один глаз у нее был серым, а другой — черным, и сидели они глубоко в глазницах. Зубы у нее были желтыми, как цветки ракитника, шея были длинной и кривой, а груди свисали до живота. Бедра у нее были широки и костлявы, тело ее было худым, а ноги толстыми (цит. по [Mabinogion 1977, 248]).
Хтонический характер Гуарх cохраняется и в уже более позднем фольклоре и также проявляется в ее монструозном облике: в отличие от Банши, она всегда изображается как уродливая старуха огромных размеров, но необычайно худая. У нее длинные темные зубы, которые торчат изо рта, белое лицо и, по отдельным свидетельствам, за спиной могут быть крылья, покрытые не перьями, а кожей, как у летучей мыши. Облик ее столь страшен, что ею пугают непослушных детей, известно также валлийское выражение Y mae mor salw a Gwrach y Rhibyn — «Она страшная, как Гурах-и-Рибин», обозначающее крайне уродливую женщину. То есть опять – облик трупа.
В том, что касается «вторичной атрибутики» данного персонажа, то, подобно Банши, она имеет длинные распущенные волосы (тема гребня при этом практически не зафиксирована) и, что характерно, также связана с водной стихией: Гуарх обычно можно встретить на берегу ручья или у колодца. Впрочем, по ряду свидетельств, она может также подойти и к деревне, чтобы постучать костлявой рукой в окно дома. в котором лежит человек, обреченный на смерть. В отдельных случаях, как и Банши, Гурах может появляться в облике птицы, однако птица эта имеет довольно специфический облик: у нее нет перьев и вся она обтянута кожей. В ряде районов считается, что данная птица, которая носит имя Lledrith (“призрак”) не является манифестацией Гурах, но представляет собой самостоятельный персонаж, обладающий теми же функциями — предрекать смерть. Однако, повторяем, данный образ является менее изученным и поэтому найти для него точное место в системе персонажей валлийского фольклора оказывается сложнее. К тому же, как принято считать, Гурах редко можно увидеть, и она обычно проявляет свое присутствие лишь на уровне слухового восприятия.
Если плач Банши напоминает скорее стон или рыдание, то звук, который издает Гурах гораздо определеннее: в том случае, если его слышит женщина, муж которой должен скоро умереть, Гурах кричит — Oh! fy ngwur! fy ngwr! «О, мой муж, мой муж!»; если предполагаемая жертва ребенок — крик Гурах звучит как — Oh! fy mlentyn, fy mlentyn! «О, мое дитя, мое дитя!». Соответственно мужчина, у которого должна умереть жена, слышит этот крик как — Oh! fy ngwraig, fy ngwraig! «О, моя жена, моя жена». Если умереть должен сам человек, которому является Гурах, ее крик звучит обычно как долгий стон, не носящий вербализованного характера. Таким образом, как мы видим, механизм предречения смерти полностью соответствует тому, который был уже отмечен нами в связи с ирландской Банши: объявляя человека умершим и оплакивая его, супернатуральный персонаж оповещает о его гибели (или — приближает ее?). Интересно, что в отличие от ирландской фольклорной традиции, интрпретирующей плач Банши в первую очередь как знамение смерти, но не как ее возможную причину, в валлийском фольклоре можно встретить рассказы о том, что тому или иному человеку удалось «отвратить» смерть: так, в рассказе, датированном 1878 г. повествуется о некоем крестьянине, к дому которого ночью подошла Гурах и стала рыдать и стонать; собрав все свое мужество, он высунулся из окна и крикнул: «Уходи, иди в Снаффер Инн (название соседней деревни) и больше никогда не возвращайся!». Гурах ушла, и на следующий день стало известно, что живший на краю данной деревни фермер ночью внезапно скончался”» (см. [Sikes 1880: 218]).
Другим традиционным «вестником/носителем смерти» в валлийском фольклоре является мужской персонаж, известный под именем Кихирает (Cyhyraeth). Интерпретация данного обозначения не ясна. Так, К.Бриггс соотносит данное имя с шотландским caoineagh ‘плач’ (по покойному) и видит в нем заимствование [Briggs 1977: 86]. Дж. Рис соотносил имя данного существа со средневаллийским kyhyrau ‘сухожилия’ и, таким образом, видел в нем указание на его облик: это скелет, обтянутый сухожилиями, у которого нет ни мяса, ни кожи [Rhys 1901: 453]. Составляет проблему также определение пола данного существа. Так, как отмечает Дж.Рис, при употреблении с определенным артиклем y это имя приобретает мутированную форму y Gyuyraeth, что является показателем женского рода. Однако, в то же время, по отношению к нему же обычно употребляется личное местоимение ef ‘он’, что дает Сайксу основание сделать вывод, что это персонаж мужской [Sikes 1880: 221]. Видимо, в данном случае мы имеем дело с достаточно распространенным переносом чисто грамматической категории на лексическую (ср. ирл. falith букв. “власть” со значением ‘князь, властитель’ и др.).
Облик Кихираета не достаточно ясно описан, поскольку он, как принято считать, обычно не является людям, но лишь издает характерные стонущие звуки. В отличие от Гурах и от ирландской Банши, его «стон» имитирует не столько погребальный плач, сколько протяжный и мучительный стон умирающего от тяжелой болезни. Согласно традиции, появление Кихираета является знамением не смерти вообще, но либо смерти насильственной или вызванной несчастным случаем, либо — коллективной смерти, которая должна будет постичь деревню в результате эпидемии. Так, в книге Сайкса приводятся многочисленные свидетельства лиц, которые слышали этот стон-знамение: общим для всех является во-первых, осмысление данного звука именно как стона-страдания, а, во-вторых, его «плавающий» характер — звук обычно слышен в начале как бы издалека, затем он приближается, доходит до своего апогея, переходит в вой, который обычно раздается трижды, а потом опять постепенно стихает, «отдаляясь».
Место, где раздается данный звук, с одной стороны, связано с местом грядущей гибели человека (или группы людей). Кроме того, стон Кихираета часто слышен возле церкви, где данное лицо будет погребено. С другой стороны, как и многие персонажи данного типа, Кихирает связан с водной стихией, в данном случае — с морем, и его стон часто смешивается с ревом волн. Характерный «вой» слышен, например, во время бури и, как считается, предвещает гибель рыбакам, которые в это время находятся в море (что, как мы понимаем, может носить и вполне материалистическое объяснение).
Строго говоря, мы не можем утверждать, что описанные нами персонажи валлийского фольклора (как и бретонский Анку), объединяемые общими функциями — оповещать о приближающейся смерти при помощи имитации какого-либо звука, сопровождающего как само умирание, так и погребение, являются разными персонажами. Ведь говоря об ирландской Банши, мы отмечали, что в разных районах она может носить разные «имена». Видимо, во всех указанных случаях мы имеем дело с манифестацией одной и той же идеи, которая по своей природе и должна иметь разные манифестации, подобно тому как принципиально недискретен и сам фольклорный текст. Точнее — мы находим много случаев реализации одной и той же мифологической функции — «знамение смерти» (знамение, естественно, очень условное, поскольку предречение и причина смерти, как показывает материал, обычно не отделимы друг от друга). Обращаясь вновь к ирландской традиции, мы можем сказать, что не только Банши может выступать под разными именами, но и ее функции могут в отдельных районах исполнять — русалки, которые самим фактом своего появления, далеко не всегда сопровождающегося стонами и плачем, могут знаменовать смерть короля. Так, например, в Анналах четырех мастеров отмечается, что в 887 г. возле Тайльтиу показалась длинноволосая русалка, у которой было неестественно белое лицо и длинный нос и, как пишет далее хронист «Конхобар, сын Гланнаган, король Уи Фиайлге, сгорел после этого в церкви» (цит. по [Benwell, Waugh 1961: 64]). Впрочем, данный вопрос, как нам кажется, и не может быть разрешен принципиально, важнее в данном случае для нас другое — постоянно присутствующий в кельтском фольклоре мотив звукового сигнала, оповещающего о смерти, видимо — сигнала-вести из Иного мира. Механизм данного «сигнала» также практически универсален — он имитирует какой-либо звук, связанный со смертью, то есть звук, который должен будет произведен в будущем.
Обращение к валлийскому фольклору показывает, что далеко не всегда данный «сигнал», знак, посланный из Иного мира, может связываться с тем или иным сверхъестественным персонажем. В отдельных случаях это может быть просто — звук, не имеющий рационального объяснения, однако, что следует отметить, данный странный звук обладает особым обозначением, указывающим на его обобщающий характер. Так, словом Tolaeth принято обозначать звуковой сигнал, который считается знамением смерти, но который по своему характеру может в значительной степени варьировать. Так, данным словом называется, например, не имеющий объяснения звук ударов молотка, в таких случаях его принято интерпретировать как «удары молотка по крышке гроба» (аналогичное явление отмечено и в бретонской народной традиции: странное постукивание интерпретируется как стук кареты Анку, на которой он увозит тела умерших). Другой слуховой манифестацией данного знака могут служить не понятные звуки, напоминающие удары колокола, в таких случаях принято говорить, что «рядом прошла невидимая похоронная процессия», что в конечном итоге предвещает близкие похороны кого-либо из жителей деревни[2] . Аналогичным образом интерпретируются и странные звуки, напоминающие церковное пение. Знамением смерти считается и вой собаки, причем как вой конкретной собаки, которая, как считается в русской народной традиции, «воет к покойнику», так и неопределенный, разносящийся в воздухе вой «псов Иного мира». Как знак приближающейся смерти могут быть «прочитаны» в принципе любые звуки, не имеющие рационального объяснения. Так, Сайкс приводит в своей книге рассказ о том, как некий фермер с женой услышали поздно ночью, как дверь их дома вдруг начала хлопать и по всей кухне стали раздаваться шаги. «Джон, Джон! — вскричала испуганная жена, — “Что это?”. Зажгли свет, но дверь оказалась закрыта, а кухня была пуста. Через два дня после этого их сын, отправившийся ловить рыбу, утонул» [Sikes 1880:227]. Действительно, когда в дом принесли какое-то время спустя его тело, входная дверь хлопала, а кухня была полна людей. Таким образом, механизм интерпретации данных знамений, как мы видим, базируется уже не на регулярности и изначальной заданности его как символа (как в случае с Банши или с Гурах), но скорее на окказиональных причинно-следственных связях, являющихся уже частью сознания реципиента. Надо отметить, что интерпретация подобных знамений часто происходит уже post factum, хотя, в принципе, тенденция объяснять практически любое непонятное явление как «дурной знак» является характерной для народного сознания в целом.
При переходе традиции эпической в фольклорную мы можем наблюдать сдвиг от фигуры пророка-прорицателя, наделенного сакральным знанием, но все же имеющего человеческую природу, к чисто мифологическому персонажу, а затем и просто — нерациональному явлению. Путь этот проходит несколько этапов: так, пророчица Кайльб в саге Разрушение Дома Да Дерга, которая предрекает и, одновременно, вызывает гибель короля Конайре, описана компилятором скорее как монструозная женщина, полу-человек — полу-демон, но не как представитель Иного мира (характерна ее поза: на одной ноге с зажмуренным глазом, которая демонстрирует, что данный персонаж находится в мире ином лишь наполовину) в полном смысле этого слова. Бадб, Син и другие, подобные им персонажи, обладают человеческой природой в несколько меньшей степени и исполняют обычно функции медиаторов и обладают вследствие этого двойственной природой. Персонажи, подобные Банши или Гуарх, человеческой природы уже не имеют, это персонифицированные знаки Иного мира, знамения, которые исполняют функции сигналов о предстоящем событии (смерти) и которые соответствующим образом интерпретируются подготовленным реципиентом. Интересен в данной связи эпизод из рассказа Неуловимый принц Г.К.Честертона, действие которого происходит в Ирландии: английская полиция нанимает ирландскую девушку, которая должна имитируя крик Банши оповестить о появлении скрывающегося от властей ирландского аристократа. Один из действующих лиц, ирландец по происхождению, который посвящен в эту тайну, воспринимает данный «сигнал» тем не менее как знамение его скорой гибели и, действительно, вскоре погибает во время перестрелки. Следующим этапом развития данной темы является отказ от персонификации знака и замена его неким аморфным знамением (неясный звук, видение похорон, звон колокола и проч.). Таким образом, мы можем сказать, что воплощение знамения смерти проходит путь «от пророка к примете».
Но несмотря на различия, наблюдаемые в нарративной традиции и в фольклоре, механизм предвещения смерти остается практически постоянным: это всегда декларирование (иногда в форме метафорической) как уже свершившегося события, которое должно иметь место в будущем, причем, как правило, в будущем ближайшем. В ситуации предречения смерти пророком (друидом) на уровне языковом предсказание оформляется еще как футурум, однако, когда мы начинаем иметь дело с персонажами, имеющими сверхъестественную природу, ситуация меняется. Так, Бадб в Разрушении Дома Да Хока говорит, что моет сбрую короля который умрет (ирл. robeba), однако сама сбруя оказывается в этот момент уже покрытой кровью, что демонстрирует промежуточный, медиативный, характер как самого персонажа, так и механизма знамения в целом. Фольклорные же знамения, оказываясь в данном случае на внешнем уровне синонимичными магическим вредоносным действиям и заклинаниям, будучи переведенными в план языка, являют собой скорее перфекты (ср. «результатив» в народном заговоре). Гуарх оплакивает близкого человека, банши – также оплакивает (хотя и не вербально) потомка королей, издавая при этом, по сути, те же звуки, которые во время реальных похорон издают традиционные ирландские плакальщицы (в свою очередь – отождествляющиеся с посланницами из Иного мира, провожающих умершего в последний путь из мира живых). В валлийском же фольклоре существует поверье – человек, который вскоре должен умереть, вдруг слышит шум шагов, напоминающих медленную поступь похоронной процессии, и даже иногда – видит такую процессию: но участники ее – не реальные люди, а те же «обитатели холмов» (валл. – teulu). Таким образом, как можем мы сделать предварительный вывод, явление Иного мира всегда осмысляется как послание из будущего, где данное событие уже имело место.
В связи с этим встает вопрос об осмыслении направления движения времени в Мире Смерти и Мире Жизни. В принципе, формулируя эту проблему иначе, мы можем поставить вопрос о пространственном размещении будущего в ирландской мифо-поэтической традиции и/или в традиции фольклорной, что, как нам кажется, не совсем равнозначно.
Пророки и пророчицы видят какие-то элементы будущего, явленного только им в силу их экстраординарных способностей. Примеров здесь можно найти множество, причем, естественно, далеко не только в одной ирландской традиции. Но в целом эффект подобного про-видения строится на идее, что будущее расположено где-то в ближнем пространстве, к которому медленно, но неуклонно приближается точка «здесь и сейчас». «Видение» этого будущего, причем видение с точки зрения ирландского компилятора иногда почти буквальное, расположенное в том же пространстве, но в отдалении (а следовательно - и отдаленно во времени) описано, например, в одной из редакций саги Похищение быка из Куальнге (в так наз. «Первой редакции»). Так, после рассказа о вырубке леса для прохода войска («Направились к тому лесу воины и мечами прорубили дорогу для своих колесниц. С тех пор и называется это место Слехта (букв. “просека” - Т.М.) близ Партрайге Бека, к юго-западу от Кенаннас на Риг») в “Книге Бурой коровы” добавлено:
Другие же считают, что именно там и была встреча Медб с пророчицей Федельм, о чем мы уже рассказывали. И так тогда ответила Федельм Медб, что пришлось вырубать лес. “Посмотри, каким видишь ты мой поход” (mo fhechtas) - сказала Медб. “Трудно мне это” - сказала девушка, - “Не удается моему взгляду пройти сквозь лес.” “Этому мы поможем” - сказала Медб - “мы вырубим этот лес» [TBC 1976: 10].
Как нам кажется, этот «наивный» хронотопический образ заслуживает дальнейшего самостоятельного анализа, однако сейчас для нас важно, что находящееся в некоем ближнем пространстве будущее доступно для восприятия и интерпретации далеко не каждому человеку, а напротив – лишь избранным. Более того, в этой же сцене с пророчицей Федельм говорится, что для того, чтобы увидеть будущее, ей необходимо было прийти в особое экстатическое состояние шаманистского толка (imbas forosnai). Однако, сам мир будущего при этом как бы остается неизменным и направление движения времени не нарушается. Вектор приложения силы при этом также остается неизменным и подчиняющимся рациональным законам: из прошлого в будущее через точку «настоящее».
Совершенно иную картину мы видим в традиции фольклорной, в которой вектор направления сигнала оказывается инверсированным: из будущего в настоящее[3]. В эпизоде с Бадб, моющей в воде у брода окровавленную сбрую и доспехи обреченных на смерть воинов, этот зрительный образ оказывается доступным всем, подобно тому, как плач банши оказывается доступным для восприятия всех, даже тех, кому он и не предназначен (вспомним «запасливых торговцев»). То есть, иными словами, плач банши являет собой направленное послание из мира будущего, осмысляемого как Иной мир, конвенциональность которого оказывается зашифрованной в достаточно прозрачной символике погребальной обрядности. Валлийские параллели, как нам кажется, делают наш вывод еще более обоснованным. Но при этом встает вопрос: а в каком же направлении тогда движется время в этом «ином мире»? Не в противоположном ли нашему? Признаться, мы не решаемся дать однозначный ответ на этот вопрос…
---
[1] О предания шотландцев мы рассуждать не станем, поскольку по сути все они являются диалектными вариациями на тему все той же Банши.
[2] Явление “похорон” может, напротив, носить и чисто визуальный характер. Как в валлийской, так и в ирландской народной традиции, отмечается вера в то, что “малый народец” оповещает о приближающейся смерти при помощи особого спектакля: человечки несут гроб и делают вид, что оплакивают покойного (иногда — смеются). Данное видение всегда расценивается как знамение смерти.
[3] Как мы уже в свое время отмечали, аналогичная имитация элементов погребальной обрядности в мире живых носит совершенно иной характер. При сопоставлении имитации погребального плача банши и аналогичной имитации рытья могилы королю Муйрхертаху в саге Смерть Муйрхертаха, сына Эрк сразу обращает на себя внимание один момент, а именно – разноправленность модальности. Если епископ Кайрнех, имитируя погребение, стремится погубить короля и для этого направляет особым образом оформленный сигнал в Иной мир, плач банши, напротив, оказывается направленным из Иного мира в мир людей, и поэтому то, что в первом случае имеет скорее характер вредоносной магии, в втором – предстает как весть (см. также об этом в нашей работе [Михайлова 1998]).
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal

(текстовая версия, и, заодно, источник — по ссылке)
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
Номер этот не без лукавства, недаром делался он под знаком Локи, и именно Насмешник в исполнении Sceith Ailm глядит на нас с обложки.


Хотя — всё чинно и благородно под нею, можете убедиться:


В номере два отрывка не публиковавшихся ранее переводов исландских саг (журнальные версии) и исландских сказок от Т.Ермолаева, глава о Локи из нашего-вечного Our Troth, а к ней заметка о локианцах. Ещё есть посвященные Локи (не «Марвеловскому»!) стихи и сказка, уже современная, за авторством Marita~ (точнее, у неё две сказки, просто вторая не про Локи). Изложена точка зрения на жертвоприношения сегодня, и проводится мастер-класс, как сплести конька в дар, есть рассказ про северные мотивы в архитектуре Санкт-Петербурга и заметка о некоторых забавностях исландского словообразования, а так же перевод главки А.Бьёрнссона про Мидсаммер...
Надеюсь, каждый из читателей найдёт в номере что-то интересное и нужное именно ему.
Удачи Вам в этом!
Читать или скачать.
UPD. Мои извинения Т.Ермолаеву (Stridmann) за неоднократно(!!) перевранные в журнале его ник и фамилию. Ну, слепая я...((
UPD 2-3.Всё исправлено, в том числе по замечанию isca-lox. Рогнеда, спасибо ОГРОМНОЕ!
@темы: статьи, ссылки, альманах «Сага»
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментарии (4)
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
На второй день прибыли остальные участники поездки и мы отправились в следующий пункт маршрута - знаменитую долину Тингвеллир. Знаменитую одновременно исторически и геологически.))

Во-первых, там собрался тысячу лет назад старейший в мире парламент - Альтинг, , "большой тинг". Само название долины переводится как "Долина собрания, тинга". Альтинг какое-то время сохранялся после того, как Исландия подчинилась норвежским королям, только решал уже внутренние вопросы. По-видимому, он был ликвидировал в 16 веке, после восстания исландцев против власти датчан: тогда карательная экспедиция разоружила жителей острова. Альтинг воссоздали в 19 веке, а в двадцатом, после войны, когда Исландия (при участии США) провозгласила себя самостоятельной республикой, это также было объявлено в Тингвеллире.
Во-вторых, это одно из двух мест в мире, где на сушу выходят океанические разломы - зоны раздвижения литосферных плит. (Второе - в Африке). На самом деле, правильнее сказать, что рифт выстроил здесь себе сушу. Исландия практически полностью вулканического происхождения: там, где она не сложена наслоениями лавы, она сложена из слове пемзы, туфа, вулканических бомб, или же из намытых водой обломков все той же базальтовой лавы и туфа и пемзы. Атлантический рифт пересекает весь остров, и долина Тингвеллир и озеро Тингвалаватн являются просто его участком.
Тут я повешу иллюстрацию из вики. На ней заодно и Тингвеллир указан.))

А Аэропорт Кейлавика стоит на краю рифтовой зоны, и когда едешь в столицу, лавовые поля рифта у тебя все по левую руку.
осторожно, полсотни фото!
На самом деле, большая часть рифта сложена лавовыми потоками, старыми и новыми, и представляет собой лавовую пустыню, на которой высятся там и сям вулканы. Ведь там непрерывно идет процесс раздвижения плит, и нередко происходят трещинные извержения. Просто открывается трещина в земле под напором магмы снизу, откуда начинает изливаться лава и местами строиться вулканические конусы в местах взрывов газа. Однако Тингвеллиру повезло: когда-то давно в этом месте вместо открытия вулкана произошло опускание части земной поверхности, она растрескалась, но извержений не произошло. И на этом сравнительно небольшом участке мы можем видеть результаты раздвижения земной коры своими глазами.
Туристов, судя по проспектам, любят привозить в Тингвеллир и показывать какую-нибудь красивую расщелину со словами "а здесь у нас трещина между Европой и Америкой". Фигу! Вся долина Тингвеллир, и область вокруг нее, от гор справа до гор слева является одной сплошной щелью между условными "Европой и Америкой". И гуляем мы там все по нейтральной новенькой (геологически) территории. Хотя есть и гораздо новее, те лавы, которым залит почти весь основной рифт.
Это было вступление, а теперь слайды.)) Их будет дофига, ибо Тингвеллир прекрасен! Жаль, что мало походили.
Утро, перед выездом заехали на маяк на оконечности полуострова Кефлавик.


Затем мимо Рейкьявика поехали в Тингвеллир. Это меньше часа езды от столицы. Перед спуском в долину остановились на смотровой площадке.



Возле смотровой площадки - поле камней. Гости и туристы складывают маленькие пирамидки в память и посещении. Какая-то местная традиция, пропагандируемая туристам.))

Еще тут растут разные мхи и смешные травяные подушки, цветущие розовым.


Дорога спускается в вниз по холмам и сворачивает к туристическому центру: автостоянка, кафе, платный туалет и спуск непосредственно в сбросовую долину Тингвеллир.
Вывеска с картой-схемой долины.

Для сравнения, гуглоснимок сверху:




Наши первые рифтовые трещины, рассевшаяся при растяжении земля, точнее, старая лава.)) А морщинистый узор на поверхности камня - это просто складки, образующиеся на сминающейся поверхности жидкой лавы при застывании. Кайф!
Вид с края долины. Видны большие трещины на ее дне. Многие из них - очень глубокие озера с чистой ледяной водой. Кстати, они продолжаются на дне озера.





Поближе.

Офигенное же проседание!!

Идем вниз. Тут все обустроено.

Впереди исландский флаг отмечает Скалу Закона.

Лазаю по ближайшим скалам.



Вроде бы эти домики - гостиницы. Но церковь и кладбище указывают, что поблизости кто-то жил или живет. Не знаю, обитаем ли сейчас Тингвеллир. На берегу озера издали видела несколько домов.

Скала Закона - природная трибуна, с которой выступали в старину знатоки запутанных исландских законов и участники Альтинга. Слева краешек деревянной трибуны, установленной на ее основании.))

Происходило это раз в год (кажется), летом, когда все желающие съезжались в Тингвеллир на собрание и ярмарку. Вокруг скалы, кстати, сохранились каменные основания временных домов для участников собраний: прямоугольные стены, на которые натягивалась крыша из ткани (обычная палатка не очень надежна в исландском влажном-ветреном климате.) Тингвеллир, кстати, защищен от ветров неплохо, это очень заметно при спуске в долину.
Вообще-то, я снимала эти основания, не понимаю, где, блин, фото. Фотокосяки нас обоих преследовали с начала поездки. А вот наша подруга наоборот, купила прямо накануне классный новый аппарат со всякими хитрыми фильтрами и у нее все получалось. Только постоянно приходилось ее за шиворот оттаскивать дальше на маршрут... Надеюсь, я еще повешу подборки ее фото в стиле "додать драматизму!")))
Ладно, едем дальше. Вот это - здоровенный вулкан Скъялдбрейдур (надеюсь, написала правильно). Замыкает долину Тингвеллир, сидя на рифте.

Речка стекает в долину.


Прогулка к трещинам.





А глубина трещины очень нефиговая.

Внезапно солнышко, и настроение пейзажа резко меняется.



Вернулись к стене долины и поднимаемся посмотреть местный водопад.


Это не горизонт завален! Это долина завалена!))

Поздняя весна...

- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
Но сперва - текст искомой статьи, в полной редакции
Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
читать дальше
1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, -
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия или с угрозой его применения, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
(с)
источник
Профессиональный комментарий Сигвальда, годи «Общины Асатру в Санкт-Петербурге», в рамках «виртуального альтинга» (для тех, кто не сможет присутствовать).
...Я скорее не вынесу на обсуждение уже вынесенные вопросы, а изложу свою точку зрения на первый из них, вдруг полезно будет. Итак: "вопрос о ситуации в России с законом "об оскорблении чувств""
читать дальше
Закон 136-ФЗ от 29.06.2013 г. "О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан", с 1 июля 2013 г. установил уголовную и административную ответственность за нарушение соответственно прав на свободу совести и вероисповедания и законодательства.
Вначале хотелось бы указать, что это не закон о защите православия, как нередко заявляют всяческие крикуны. Да, он был принят при активном участии РПЦ и в результате событий, произошедших в данной религиозной организации. Но объективно он защищает права всех верующих любых религий на территории РФ. Если выражать смысл закона простым языком, то поскольку выяснилось, что в современном обществе не все понимают или желают соблюдать принцип "хочешь чтобы уважали тебя - уважай других", государство взяло на себя функцию "принуждения к взаимоуважению", введя санкции, ныне действующие в статьях административного и уголовного кодекса. Действующее законодательство предусматривает право любого гражданина, считающего свои права нарушенными, обратиться за защитой в правоохранительные органы, и обязанность последних рассмотреть обращение и предпринять соответствующие меры.
Теперь о том, за что собственно наказывают. Сначала ст.148 УК РФ:
1. "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"
Здесь три условия. Действия должны быть:
а. Публичными
б. Выражающими явное неуважение к верующим и явно направленными на оскорбление их чувств. То есть обязательному доказыванию подлежит наличие умысла: если я заявляю, что не верю в искупление грехов Христом - это часть моих религиозных взглядов и не может никого оскорблять де-юре, пусть и де-факто кому-то это неприятно (исключение составит, если я буду кричать об этом в церкви, см.ч.2.). А вот если назову христианство "религией рабов", как это широко и до сих пор безнаказанно практикуется в массовых пабликах - это уже состав статьи. Кстати, цитирование с осуждением оскорблением не является, например ""Только та церковь, которая горит, может нести свет" - опасная глупость".
То есть - кришнаиты, пляшущие на центральных улицах города, возможно нарушают административное законодательство в сфере проведения собраний и митингов, но под ст.148 УК не подпадают, потому что они демонстрируют собственные религиозные взгляды, а отнюдь не неуважение к чужим. То, что верующему абсолютно любой религии может не понравиться шествие кришнаитов, намаз на площади или колокольный звон - его личные проблемы. Если я демонстрирую свои религиозные взгляды во внешнем виде, поведении или публикациях в интернете, и эти действия не содержат прямых оскорблений чужих религиозных взглядов - я имею на это право согласно закону 125-ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях" и ст.28 Конституции РФ.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
Разумеется, если человек не только вздумал оскорбить верующих, но и приперся для этого к ним на собрание, в храм/на капище - это большее злодеяние и наказываться должно строже.
3.Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
А это касается в основном различных активистов-фанатиков: если религиозная церемония проводится законно (т.е. на территории, принадлежащей религиозной организации/группе на праве собственности, аренды или предоставленной ей кем-либо, по согласованию с местной властью или вне общественных мест, без нарушений общественного порядка и других норм законодательства), вмешиваться в ее проведение нельзя.
4. У данного пункта статьи есть два квалифицирующих признака, еще более отягчающих данное деяние и соответственно наказание: это применение или угроза применения насилия, а также использование служебного положения.
На самом деле, даже если церемония незаконная - пресечь ее проведение насилием или угрозами может только полиция. Если же при проведении церемонии ничего не нарушается, а вас заставляют разойтись - соответствующее "начальство" может быть привлечено к уголовной ответственности, равно как и в случае разного рода административных препонов, чинимых представителями власти.
Теперь об административной ответственности, ст.5.26 КоАП:
1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него.
Это о тех, кто имеет над конкретным верующим какую-либо власть: родители, преподаватели, начальство на работе и т.п.
2. Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение.
Грань между ч.1 ст.148 УК и данной нормой весьма тонка и может быть определена только при рассмотрении конкретных случаев со всеми сопутствующими обстоятельствами.
Ну и наконец, "ч.1 ст.282 УК РФ:
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет""
Чем же она отличается от ст.148 УК РФ? Во-первых, мотивом: ст.148 определяет целью деяния оскорбить, высмеять конкретную религию или ее представителей, а ч.1 ст.282 - призвать окружающих к определенному поведению в отношении группы лиц по религиозному (в разбираемом нами случае) признаку. Например, публично и тем паче в храме высказанная чушь, что "христианство - религия рабов" - это ст.148. А часто встречающийся призыв жечь церкви и убивать священников - уже ч.1 ст.282. Но на деле должно быть непросто квалифицировать деяние по одной из этих двух статей, и даже результаты лингвистической экспертизы могут носить след оценочного мнения, не всегда в пользу того, кому вменяется данное деяние.
Во-вторых, и это еще более скользкий момент, на который следует обратить внимание: в ч.1 ст.282 четко указано, что местом совершения наказуемого деяния может являться Интернет, а в ст.148 такого указания нет: законодатель ограничился формулировкой "публичные действия". Публичные - значит такие, которые могут стать предметом восприятия неограниченного круга лиц, т.е. совершенные в общественном месте, в присутствии значительного количества людей, либо посредством СМИ или общедоступных ресурсов Интернета. Но наша правоприменительная система обычно действует по пути наименьшего сопротивления: если кто-то опубликовал какую-то чушь в Интернете, а про него написано в ч.1 ст.282, то по этой статье скорее всего и квалифицируют совершенное деяние. И кто знает, достанет ли усердия у судьи разобраться в тонкостях ситуации - попавшему в положение обвиняемого лучше заручиться помощью профессионального юриста.
Но лучше - совсем не попадать в такое положение. Как? Думать, прежде чем что-то публиковать, репостить и заявлять, ставить себя на место тех, чьи чувства ты можешь задеть, и воздерживаться от "резких движений". Потому что только уважая других ты можешь требовать уважения к себе. Да и такой еще момент: если для для поддержания собственных убеждений тебе необходимо превозносить их только за счет других, цена им (да и тебе) - размером с тушку Моськи из соответствующей басни Крылова.
В случае с **** (прим. речь о конкретной жалобе на странцу вКонтакте ) ситуация специфична тем, что его уголовное преследование используется заявителем не с целью защиты нарушенных прав, а в качестве инструмента расправы. То ли он кому-то насолил в процессе своей деятельности в пользу язычества, то ли нашелся кто-то из не в меру рьяных прихвостней РПЦ (именно прихвостней, т.к. исходя из содержания заявления я не могу назвать заявителя христианином, ввиду серьезного противоречия принципам христианства), но его страница явно тщательно изучалась вплоть до нахождения записей 2-3 летней давности, использованных как компрометирующие. То есть "оскорбленный" специально искал на странице **** повод "оскорбиться", при наличии в "контакте" множества других общедоступных страниц и пабликов, где ежедневно публикуются гораздо более "жгучие" материалы. Исходя из сведений, предоставленных мне ****, я считаю уголовное дело бесперспективным: там и к сроку давности вопросы есть, и к юрисдикции редакции ч.1. ст.282 от 28.06.2014 г., и к другим моментам. Так что вряд ли это "костер инквизиции", как пытаются трактовать истеричные личности - скорее мерзенькая такая попытка "нассать в тапки".
Касаемо вопроса о том, как этому противодействовать, я уже частично высказался: чаще думать, чем делать, а также перестать воспринимать интернет как место, где можно то, чего нельзя в реале: это уже в прошлом. А прошлое, как мы видим, еще может работать против нас на радость недоброжелателям: посадить не посадят, а нервы попортят. Поэтому рекомендую всем не только "следить за базаром" впредь, но и проверить историю записей на своей странице и в администрируемых пабликах, у кого таковые есть, на предмет старых и свежих материалов, могущих быть расцененными как оскорбительные. Попавшим же в ситуацию **** рекомендую сразу выносить всю информацию на обсуждение: среди асатруа есть и юристы, и способные сообща помочь с наймом адвоката. Оперативно и профессионально единоверцам мог бы помогать общественный фонд - единственно представляющаяся мне возможной форма организации, способной собирать и выделять средства, - но боюсь, что больше затрат уйдет на его содержание, чем на финансирование проектов защиты асатруа. Бьорн спрашивает "чего ждать и на что надеяться"? Надеяться на благоразумие асатруа - наших соотечественников и не только, и на скорое осознание того, что несмотря на разнообразие взглядов, общие интересы у нас все же есть и действовать сообща необходимо системно, а не только в отдельных экстремальных моментах. Ждать, когда хотя бы активная часть называющих себя асатруа повзрослеет и перестанет считать маргинальное поведение чем-то невероятно крутым.
(с)
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
(перепечатка Артефакт: Кольцо из Пьетроассы)
Фёдор Успенский — доктор филологических наук, заместитель директора Института славяноведения РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ
Судьба артефакта, найденного в XIX веке в румынской деревне Пьетроасса, оказалась во многих отношениях столь же драматичной в Новое время, сколь бывала участь предметов подобного рода в эпоху Великого переселения народов. Он был обнаружен в составе золотого клада, почти половина предметов из которого разошлась по рукам прежде, чем попала в музеи. Затем в 1875 году его похитили из музея в Бухаресте. Грабитель был в некотором смысле не чужд нравам той эпохи, когда его добыча создавалась — она была нужна ему не в качестве уникального раритета, относящегося, по видимому, к IV столетию нашей эры, а лишь как кусок золота, который удобнее и выгоднее всего раздробить на части, так что к моменту ареста он успел переплавить одну часть предмета и значительно повредить другую. Выполненная на нем надпись оказалась расколотой. В начале ХХ столетия сохранившиеся фрагменты были вторично похищены из музея и вновь возвращены туда, а в 1916 году при отступлении румынских войск опять исчезли и оказались, по-видимому, в Москве, откуда вернулись в Румынию лишь в 1956 году. Значительная доля прорисей и чтений надписи осуществлялись, таким образом, по медной копии, изготовленной еще до первой кражи 1875 года.
Для чего использовалось кольцо?
читать дальше
Артефакт из Пьетроассы с выполненной на нем рунической надписью по форме представляет собой не что иное, как незамкнутое золотое кольцо (гривну?) толщиной 1–1,5 см и 16 см в диаметре, которое при желании можно было замкнуть, так как на одном из его концов было нечто вроде втулки, в которую вставлялся другой конец. Объект с большой вероятностью имел сакральное назначение, надписью лишь усиливаемое и подчеркиваемое.
О предназначении кольца мы можем только догадываться. Возможно, это кольцо принадлежало некоему святилищу и висело на его воротах, о существовании таких колец на дверях языческих капищ мы знаем из скандинавских саг. Не исключено, что оно представляло собой гривну, некогда отданную в дар святилищу. Как бы то ни было, нанесенный на предмет текст не позволяет считать этот артефакт, относящийся к IV — раннему V веку, просто ювелирным украшением, пусть и изготовленным из драгоценного металла.
Кольцо из Пьетроассы

Рисунок Хенрика Тренка, 1875 год.
Значение рунической надписи на кольце
Надпись выполнена старшим (24-значным) футарком и являет собой один из древнейших образчиков германского рунического письма как такового. Помимо всего прочего, перед нами, возможно, один из немногих текстов, связанных с готами и написанных чуть ли не в ту же эпоху, когда создавался готский алфавит, а епископ Вульфила (Ульфила) осуществлял свой перевод Библии. Неизвестно, правда, принадлежал ли интересующий нас предмет готам изначально, но, во всяком случае, надпись на нем в ее классическом, наиболее общепринятом прочтении сообщает следующее:
руническая надпись

Gutani o wi hailag буквально можно перевести как ‘готов [владение] святилище (святыня) священное (неприкосновенное / нерушимое)’ (Krause 1937: 592–595, No 75).
Чтение gutani и wi признаются подавляющим большинством исследователей и на сегодняшний день могут считаться относительно ясными и почти бесспорными. Более сложными, хотя и по совершенно разным причинам, оказываются два других компонента.
Слово hailag в Библии Вульфилы не обнаруживается, в качестве обозначения для святого и священного оно зафиксировано в германских языках лишь заметно позже. Высказывались разные предположения, почему, собственно, оно отсутствует в Готской Библии, не исключалось, в частности, что в то время hailag обладало еще слишком сильными языческими коннотациями и применялось, скорее, к кругу объектов и понятий, священных для язычника. Так или иначе, возникает вопрос о причинах своеобразного удвоения идеи святости в столь кратком тексте, поскольку сферу сакрального и без того уже обслуживает термин wi, прилагательное от которого weihs (‘святой’) как раз неоднократно встречается в переводе Вульфилы.
Еще В. Краузе высказал предположение, что hailag (*hailags) выражает здесь не просто идею святости, будь то святость языческая или христианская, но акцентирует характерный для германских языков аспект защиты и неприкосновенности, связанный, в свою очередь, с идеей физической целостности, неповрежденности, нерушимости и неуязвимости (Krause 1937: 594). Вопрос о точной предметной соотнесенности и взаимосвязи двух обозначений сакрального в этом тексте — чья именно нерушимость, неприкосновенность декларируется в надписи: некоего святилища, в котором пребывал наш объект, или самого объекта, святыни как таковой? — не поддается однозначному решению. Так или иначе, перед нами своеобразный подарок всякому историку германских древностей и исследователю, занимающемуся категорией сакрального в архаических традициях — священное золото во всем его блеске!
надпись на кольце из Пьетроассы

Информативность нашего артефакта настолько велика, что рунологи, как кажется, не обратили особенного внимания на определенную деталь, добавляющую еще один штрих к нашим представлениям о культурно-символическом языке эпохи Великого переселения народов.
Приведенное нами выше классическое прочтение надписи из Пьетроассы предполагает, что один из ее компонентов записан иным способом, нежели все остальные. Как известно, руническое письмо германцев было фонетическим, но при этом допускалось и использование рунического знака в символическом (идеографическом) значении, когда та или иная руна репрезентировала свое название, органично встраивающееся в остальной фонетически записанный текст. По-видимому, именно так и был записан второй компонент текста, читающийся как ‘достояние, имущество, вотчина, наследие’. Он представлен единичной руной1, которая фонетически соотносилась с -o-, при этом носила название oþal и, соответственно, могла передавать это слово на письме подобно тому, как руна j [*jara]2 передавала слово, соответствующее ее названию, — ‘урожай’ (д. исл. ár), руна f [*fehu]3 — ‘богатство’ (д. исл. fé
 , а руна m [*mannR]4 — ‘муж’ (д. исл. maðr)…
, а руна m [*mannR]4 — ‘муж’ (д. исл. maðr)…Руны

Слово oþal, послужившее названием для рунического знака, было связано, насколько мы можем судить по древнесеверной традиции, с одним из самых важных для германской культуры концептов неотчуждаемого, наследственного владения, отчины (в Скандинавии, например, именно обладание одалем делало человека свободным и полноценным членом социума). Не случайно в древнеисландском языке могло употребляться в значении ‘родина’, другое же, по-видимому, первичное его значение здесь — ‘родовая собственность, наследственная земля, земельный участок’. В Готской Библии соответствующий элемент входит в композит haimoþli, употребляющийся в значении ‘земля как владение’.
Сакральное значение надписи
Интересующее нас слово оказалось настолько символически насыщенным само по себе, а заложенная в нем идея неотчуждаемости настолько органически перекликается с hailag в значении ‘святой, нерушимый, неприкосновенный’, что, как кажется, ни у кого не возникало вопроса, почему на нашем сакральном предмете было вырезано именно оно. Подчеркнем, что особая идеографическая форма записи обычно только повышает сакральный статус означаемого, которое так передается, тем более что идеографический вариант записи в данном случае ни в коей мере не обусловлен техническими ограничениями — у резчика было более чем достаточно места, чтобы выписать слово целиком (как и все остальные), а не употреблять его односимвольный субститут. Однако, сколь бы ни был значим наш золотой предмет, будь он сакральным объектом, принадлежащим одному человеку / одной семье или находящимся в своеобразном коллективном владении в святилище, ему едва ли автоматически, по умолчанию, может быть присвоено именование oþal. Тем не менее для начертания на нем именно руны oþal, как кажется, существовали достаточно отчетливые причины, связанные с формой самого артефакта.
Иными словами, руна o в условно схематизированном виде воспроизводит форму предмета, на котором была начертана (в той степени, насколько вообще угловатые руны могут воспроизводить формы округлых объектов). Таким образом, руна o символизировала объект, тогда как самый объект символизировал одаль, о котором говорится в надписи. Собственно, вся надпись в целом, по-видимому, построена по принципу кольцевой композиции, так как заканчивается той же руной G, с которой начинается (Ганина 2001: 77). Судя по всему, эта же идея замыкания кольца иконически воплощена и в идеографической руне oþal.
Ценность этого объекта и нанесенного на него текста для изучения культурной традиции варваров столь велика, что его попросту не с чем сопоставить. Строго говоря, мы не знаем, является ли само кольцо, как и весь клад, готским по происхождению — не исключено, что драгоценность попала в руки готов, которые и начертали на ней текст. Так или иначе, значение этого артефакта для истории готской культуры трудно переоценить — наряду с наконечником из Ковеля (Украина), надпись из Пьетроассы принадлежит к числу наиболее древних образчиков рунической письменности у германцев.
(с)
--------------
Надпись часто используют в контексте спора о магическом значении отдельных рун в древности. С моей точки зрения: а)строго доказать магическое использование чего-либо невозможно. Даже утыканной иголками куклы в руках вудуиста (а может товарищ косплеит ... или стресс снимает!
 ). б)если каждому символу ставилось в соответствие строго определённое понятие, идеограммой которого оно выступало в записи (предположительно) сакральных и магических текстов, то использование отдельных рун вне текста становится просто логичным продолжением этой практики, вне зависимости от её существования в древности. И ни профанацией, ни заимствованием не является. Максимум — некоторой деградацией знания (специалистов по древнегерманскому нынче маловато будет. Кстати, вещь очень рекомендую).
). б)если каждому символу ставилось в соответствие строго определённое понятие, идеограммой которого оно выступало в записи (предположительно) сакральных и магических текстов, то использование отдельных рун вне текста становится просто логичным продолжением этой практики, вне зависимости от её существования в древности. И ни профанацией, ни заимствованием не является. Максимум — некоторой деградацией знания (специалистов по древнегерманскому нынче маловато будет. Кстати, вещь очень рекомендую). Короче, лишь бы работало.

- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
Кое-какие сомнения риторичны, кое-какие спорны, кое-что прибавляет новую грань к известному.
Главный вопрос достаточно актуален: насколько адекватно способен воспринять языческие реалии человек, чьё мышление (фактически - речь и её обороты, мы мыслим и передаём мысли другим — словами) сформированы в основном в категориях и терминологии христианства?
В переводе опущены примечания, чей объём сравним с самим текстом.
Из книги Аларика Холла «Эльфы в англосаксонской Англии. Вопросы верований, здоровья, пола и идентичности»
(Alaric Hall. Elves in Anglo-Saxon England. Matters of belief, health, gender аnd identity. The boydell press, 2007)
Средневековый скандинавский контекст
(A medieval Scandinavian context)
Благодаря, в основном, позднему крещению, лингвистическому консерватизму и готовности передавать по наследству литературу, чьи корни лежали в дохристианском культуре, Скандинавия обеспечила базу для изучения во всех традиционных германоговорящих культурах. Соответственно, реконструкции англосаксонского понятия ælfe часто формировались на основе данных о средневековых скандинавских альвах-álfar. Однако было бы неразумно применять необдуманно скандинавские сведения к другим культурам. Даже по одним историографическим причинам любое переосмысление англосаксонских ælfe должна начаться с переосмысления их скандинавских кузенов. Я начну здесь с показа того, как традиционная отправная точка восстановления дохристианских скандинавских представлений, писания Снорри Стурлусона, являются ненадёжными относительно ранних альвов-álfar. Более поздние средневековые исландские тексты также предоставляют свидетельства о значениях слова альв-álfr, но они еще более обманчивы в качестве доказательств дохристианских представлений, потому я включаю их здесь только в нескольких отдельных случаях, сосредотачиваясь вместо этого на поэзии, которая, как кажется, была древней или культурно консервативной, и которая и дала, собственно, основной исходный материал для Снорри
читать дальшеПосле обсуждения работы Снорри я возвращаюсь к скальдической поэзии, скандинавским хвалебным стихам, впервые засвидетельствованным начиная с девятого столетия. Ассоциация скальдической поэзии с поэзии с именами поэтов и событиями позволяет осторожно датировать стихи, достоверность датировки отчасти гарантируется сложностью размера стихов и произношения, которая запрещала переделки при устной передаче. Затем я рассматриваю эддические стихи, чье рассмотрение мифологического сюжета делает их до некоторой степени более полезными чем скальдические стихи, но чья более гибкая структура разрешала большую изменчивость при передаче, таким образом устраняя возможность точной датировки. В дополнение к представлению этих основных свидетельств, однако, древнеисландский материал, скомбинированный с известными положениями антропологических подходов в современной скандинавской науке, предоставляет средства оценить пригодность лингвистических исследований как исследований мифологии и её более широкого значения в раннесредневековом скандинавском мировоззрении. Это обеспечивает модели для интерпретации древнеанглийских данных, которые будут рассматриваться в последующих главах, и рамки внесения других скандинавских свидетельств в соответствующие связи ниже.
Я должен признаться в начале, что мои исследования являются маскулиноцентричными. Это не (сознательно) волевой выбор, и я сфокусируюсь на вопросах пола в англосаксонском контексте ниже. Но женщины сравнительно плохо представлены в наших северных мифологических источниках, частично определяемые в любом случае через их мужей, и частично скорее действовавшие как единицы межгруппового обмена, чем как парадигматические представители групп непосредственно. Раннесредневековые сведения указывают только на альвов-álfar мужского пола. Однако, сверхъествественные женщины действительно неожиданно появляются в различных местах далее, и важно обрисовать в общих чертах мое понимание слов диса-dís, норна-norn и валькирия-valkyrja, а также их семантических связей. По существу, следуя нашим источникам, dís, norn, valkyrja являются частичными синонимами со значительным перекрытием значений, принимая dís как самое широкое значение. Это позиция поддержана анализом, представленным Штрёмом (Ström) в 1954 г., но соглашение о создания классификации мифологических рас по одному только имени, одно-расовый подход доминирует в мышлении ученых. Принято следовать предпочтениям прозаических разделов поэтической «Эдды», и «Эдды» Снорри, и упоминать сверхъествественных женщин в ранней мифологии как валькирий-valkyrjur (или Valkyries, Walkuren, и т.д.) . Но это — исторически, конечно, инверсия: слово valkyrja вероятнее всего, является кеннингом («та, что выбирает убитых») для dís («(сверхъествественная) госпожа»), поскольку термин dís используется, например, в строфе «Речей Гримнира», 53 , строфе «Речей Регина», 24 и «Речах Хамдира», 28. Даже Брюнхильд, типичная вагнерианская Walkure, упоминается как dís, и никогда в эддических стихах как valkyrja. Подобным же образом, ученые часто говорят «о трех Норнах (Norns)» — но этого никогда не делают наши источники. Слово norn просто обозначает благородных и сверхъествественных женщин. Три meyjar margs vitandi, которые появляются в строфе 20 «Прорицания вёльвы», идентифицированы как Norns только потому, что Снорри говорит (по-видимому, на основе этой строфы): Þar stendr salr einn fagr undir askinum við brunninn, ok ór þeim sal koma þrjár meyjar, þær er svá heita: Urðr, Verðandi, Skuld. Þessar meyjar skapa mönnum aldr. Þær köllum vér nornir. («Под тем ясенем у источника стоит прекрасный чертог, и из него выходят три девы. Зовут их Урд (Urðr, Судьба-Произошедшее), Верданди (Verðandi, Становление) и Скульд (Skuld, Будущее). Эти девы судят людям судьбы, мы называем их норнами»). Даже Снорри, однако, не утверждает, что норны являются тремя женскими формами судьбы: он говорит скорее, что эти три девы — норны (кроме того, имена, которые он дает им, следуя «Прорицанию вёльвы», могут быть вдохновлены учёным знанием классических Парок, а не традиционной культурой). Утверждение, что «поэты используют слово dísir как будто оно означало "норны"» обращает вспять наши свидетельства. Этот анализ даёт предварительный пример важности восстановления концептуальных категорий от восходящего, но также и предлагает нам не приближаться к раннесредневековым скандинавским представлениям, пытаясь найти тщательно продуманную классификацию сверхъествественных женщин.
СНОРРИ СТУРЛУСОН.
SNORRI STURLUSON
Снорри Стурлусон (родившийся в конце 1170-ых, умерший в 1241г.), кажется, составил и отредактировал тексты, включающие в себя «Эдду» Снорри, его трактат по Северной поэзии и мифологии, спустя больше чем два столетия после официального обращения Исландии в христианство — между, возможно, 1220 и 1241 гг. — в то время как большая часть того, о чем мы думаем как о «Эдде» Снорри, может вести происхождение от более поздних редакторов. Снорриева «Эдда» включает четыре текста: «Пролог», «Видение Гюльви» (Gylfaginning), «Искусство поэзии» (Skáldskaparmál) и «Перечень размеров» (Háttatal), вероятно, сочинявшихся в обратном порядке. Это дополнено (и иногда противоречит) частично мифологической «Сагой об Инглингах», вводной частью «Круга Земного» (Heimskringla) — авторитетной историей королей Норвегии, как принято считать, вероятно, составленной Снорри в тот же период, что и его «Эдда». Оба текста основываются на цитатах из более старых стихов. Труд Снорри, таким образом, является сложной смесью старого и нового, вовлекающей сохранение, ре-интерпретацию, очистку и ложное понимание унаследованных традиций как непосредственно Снорри, так и его редакторов.
Слово álfr появляется в Снорриевой «Эдде» чаще всего в цитатах эддических стихов, и в их прозаических пересказах Снорри. Это говорит больше об источниках Снорри, которые обычно являются более полными в оригинале, чем о его собственных взглядах. Самое значительное раскрытие темы альвов Снорри, однако, происходит в его собственном перечне в «Видении Гюльви» главных обиталищ (höfuðstaðir) космоса:
Margir staðir eru þar göfugligir. Sá er einn staðr þar, er kallaðr er Álfheimr. Þar byggvir fólk þat, er Ljósálfar heita, en Dökkálfar búa niðri í jörðu, ok eru þeir ólíkir þeim sýnum ok miklu ólíkari reyndum. Ljósálfar eru fegri en sól sýnum, en Dökkálfar eru svartari en bik.
(«Немало там великолепных обиталищ. Есть среди них одно — Альвхейм. Там обитают существа, называемые светлыми альвами. Темные альвы живут в земле, у них иной облик и совсем иная природа. Светлые альвы обликом своим прекраснее солнца, а темные — чернее смолы»)
Ljósálfar (светлые альвы) упоминаются коротко после детального описания чертога Видблаин (Viðbláinn), самого высокого из трех небес-himnar Снорри: en Ljósálfar einir, hyggjum vér, at nú byggvi þá staði («но ныне обитают в нем, как мы думаем, одни лишь светлые альвы»). В дополнение к тёмным альвам-dökkálfar Снорри также упоминает Свартальвхейм (Svartálfaheimr , мир чёрных/тёмных альвов): при поисках способа связать волка Фенрира sendi Alföðr þann, er Skírnir er nefndr, sendimaðr Freys, ofan í Svartálfaheim til dverga nökkurra («Всеотец послал Скирнира, гонца Фрейра, под землю в страну черных альвов к неким карлам»). Слова ljósálfr и dökkálfr уникальны в древнеисландском языке. Слово svartálfr встречается в «Саге об Экторе и его витязях» (Ektors saga ok kappa hans), датируемой приблизительно 1300 годом, но почти наверняка это заимствование из Снорриевой «Эдды». Было замечено ранее, что dökkálfar и svartálfar, кажется, являются карликами-двергами (dvergar) под новыми именами: их особенности идентичны с особенностями двергов, и дверги иным образом не встречаются в космологии «Видения Гюльви». Когда в «Языке поэзии» Тор требует, чтобы Локи отправился к svartálfar, которые сделают золотые волосы его жене, Локи идет к существам, иначе обозначаемым как dvergr; В Свартальвхейме (Svartálfaheimr) можно встретить дверга Андвари (Andvari). Митчелл (Mitchell) утверждал, что нарративная функция svartálfar лучше всего сравнена с ётунами-jötnar, у которых Скирнир ищет Герд для Фрейра в «Речах Скирнира» (Skirnismál), и я приравниваю ётунов-jötnar к двергам-dvergar в следующем разделе. Я тем самым обесцениваю упоминание dökkálfar и svartálfar Снорри в качестве доказательства для существования более ранних альвов-álfar.
Несмотря на давнишний скептицизм, однако, ljósálfar поддержали репутацию расы эфирных, небесных (светлых) эльфов. Но, как Холтсмарк (Holtsmark) показал в 1964, описание Снорри Видблаина находилось почти наверняка под влиянием (и возможно основано на) сообщении об ангелах в Elucidarius, справочнике по христианскому богословию начала двенадцатого века, переведенному на исландский язык приблизительно к 1200г., и, очевидно, используемом в другом месте Снорриевой «Эдды». Самая старая рукопись Elucidarius, AM 674a 4to, включает диалог:
D(iscipulus): Huar byggver G(oþ
 .
. Magister: Hvorvetna es velde hans en þo es oþle hans iscilningar himne.
D(iscipulus): Huat es scilningar himinn
Magister: Þrir ero himnar. Einn licamlegr sa es ver megom sia. Annarr andlegr. þar es andlegar scepnor bvggua þat ero englar. Enn þriþe es scilningar himinn þar es heilog þrenning bvggver. oc helger englar mego þar sia G(oþ
 .
.У(ченик): Где Бог живет?
Магистр: Везде, где простирается его власть; однако, его родная область находится в небе разума.
У(ченик): Что такое небо разума?
Магистр: Есть три неба. Одно телесное, то, что мы можем видеть. Второе является духовным (andlegr), где живут духовные существа, которые являются ангелами. Но третьим является небо разума, где обитает Святая Троица; и там святые ангелы могут зреть Бога.
Отсюда Снорри выводит свои три неба. То, что Elucidarius был также источником вдохновения для его ljósálfar, которые eru fegri en sól («прекраснее чем солнце»), предполагается по упоминанием об englar es VII hlutum ero fegre an sol («ангелы, которые в семь раз более красивы чем солнце»; ср. angeli, qui solem septuplo sua vincunt pulchritudine в оригинале). Правда, надо сказать, что Elucidarius располагает своих ангелов-englar во втором ряду небес, духовном-andlegr, а не третьем, на котором появляются ljósálfar в Снорриевой «Эдде». Так же фраза fegri en sól не является особо отличительный. Но даже при этом случае вербальная связь между Elucidarius и описанием ljósálfar у Снорри кажется вероятной, ljósálfar являются существами на уровне, по крайней мере, оязычествления христианских ангелов. Снорри, по-видимому, переименовал двергов-dvergar, следовательно, можно предположить, что они были по отношению к ljósálfar тем же, что падшие ангелы к небесным — характерное приспособление традиционной космологии к христианству.
Что Снорри выбрал понятие álfr (альв) как аналог христианского engill (ангел), конечно, не лишено интереса. Если ничто иное, то это уже предполагает, что у álfr были положительные коннотации. Однако, у Снорри в этом случае было немного вариантов. Из других родных северных слов, обозначающих сверхъествественные существа мужского пола, с которыми были бы связаны положительные ассоциации, Снорри уже использовал слова áss (ас) и vanr (ван), в то время как понятия во множественном числе regin (Могучие) и tívar (Тивы, т.е. боги. по имени Тива-Тюра во множественном числе) были оба архаичны и закреплены как синонимы для асов-æsir. Единственной вероятной альтернативой для Снорри были довольно бесцветные vættr ((сверхъествественное) существо) и andi (дух). Факт, что он предпочел им слово álfr, может быть соответственно объяснен и при помощи других доводов: «Язык поэзии» показывает, что Снорри знал кеннинг álfröðull (обозначающий солнце, и обсуждаемый ниже), который мог быть принят как указание на связь альвов-álfar со светом, и он, возможно, чувствовал потребность включить álfar в свою мифографию, которая не распространялась на более общие термины vættr и andi.
Слово álfr действительно встречается в главах 48-9 «Саги об Инглингах» в прозвище Олава Гейстадаальва (Óláfr Geirstaðaálfr, т.е. альв Гейстадира), для чьего сына, как Снорри рассказывает в предисловии к саге, Тьодольв из Хвинира (Þjóðólfr ór Hvini) составил «Перечень Инглингов» (Ynglingatal), стихотворение, на котором базируется сага. Однако сам «Перечень Инглингов» не содержит данное прозвище. Хотя никакое явное объяснение этому никогда не давалось, факт вызвал предположения, связывающие альвов-álfar с мёртвыми, потому что в другом источнике, которые Хейнрикс (Heinrichs) приводит как восходящий к двенадцатому столетию, в «Пряди об Олаве Альве Гейрстадира» (Óláfs þáttr Geirstaðaálfs), люди приносят жертвы Олаву после его смерти. Но, помимо точки зрения Хейнрикса о том, что идеология пряди — много более поздняя, чем двенадцатое столетие, и его мнения о культе Олава, как, возможно, отражающем культы святых, не ясна причина для такого прозвища Олава. Различные другие факторы также могли бы быть значимыми: его мать приезжает из Альвхейма (Álfheimar); как я обсуждаю ниже, слово álfr было распространено в поэтических эпитетах для мужчин, и Альв Гейрстадира мог иметь истоком один из них; это может быть также быть эпитетом Фрейра (Freyr), от которого Олав выводит своё происхождение в сагах; и в «Пряди» Олав особенно статен, характеристика, разделяемая им с альвами-álfar в «Отрывках саги о некоторых древних конунгах Дании и Швеции» (Sögubrot af nokkurum fornkonungum í Dana- ok Svíaveldi), приблизительно датируемой 1300 г. Прозвище Олава поэтому слишком неоднозначно в качестве доказательства ранних представлений об álfr.
Последнее, что стоит обсудить — основное деление в мифографии «Видения Гюльви», который якобы исключает альвов-álfar: Снорри делит богов на две группы, асов (æsir) и ванов(vanir). Это деление было принято как аксиома в самой современной мифографии, но оно является курьёзной лже-параллелью. Более того использование Снорри слова álfr в «Языке поэзии» намного ближе к использованию его в поэтических источниках, чем к «Видению Гюльви». Например, Снорри заявляет что:
Mann er ok rétt at kenna til allra Ása heita. Kent er ok við jǫtna heiti, ok er þat flest háð eða lastmæli. Vel þykkir kent til álfa.
(«Правильно обозначать человека и всеми хейти асов. Называют его и посредством хейти великанов, но это обычно либо насмешка, либо злословие. Не возбраняется называть его и именами альвов»).
Это соответствует засвидетельствованному скальдическому использованию (обсуждаемому в следующем разделе), но не полностью соответствует делению на светлых и темных альвов (ljósálfar и dökkálfar) «Видения Гюльви». Здесь не место производить пересмотр наших свидетельств про ванов-vanir и тех предположений, которые выдвигали исследователи прошлого на эту теме. Однако, и это стоит подчеркнуть, что помимо «Саги об Инглингах» и «Видения Гюльви», слово vanr является редким в древнесеверном и не засвидетельствовано в иных германских языках, тогда как понятие álfr засвидетельствовано хорошо, широко распространено и обладает рядом несомненных родственных слов в индоевропейских языках. Хотя в «Видении Гюдьви» боги разделены на асов-æsir и ванов-vanir, наши другие источники, включая «Язык поэзии», неоднократно предпочитают говорить о асах-æsir и альвах-álfar. Возникает предположение, что vanr и álfr первоначально обозначали, по сути, один и тот мифологический конструкт, а их диссимиляция в «Видении Гюльви», возможно, отражает систематизацию мифографии, выполненную Снорри. Я обсуждаю эту перспективу далее ниже. Пока, однако, мы можем вернуться к нашим поэтическим источникам.
(...)
Теоретически продолжение может быть переведено...
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментарии (2)
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal


Слово от редакции:
Друзья!
В праздник Летнего Солнцестояния представляем Вам десятый номер журнала «Северный ветер».
Не забывайте оставлять Ваши отзывы в открытой группе журнала vk.com/nordanvindr, нам очень Важно знать Ваше мнение.
С праздником Летнего Солнцестояния!!! Пусть боги пошлют всем сил и твердости духа!
(с)
В номере:
-подборка материалов по северной мифологии;
-рассказы о Голубой Лагуне в Исландии и путешествии по Карелии;
-мнение Дагульва Лофтсона о локианстве (помните его статью в «Саге» о связи Локи и Агни?);
-переводы исландских сказок;
-рассказ о фильме «Сага о викинге»;
-стихи Ольги Маркеловой;
и многое другое.
Номер можно прочесть или скачать по ссылке.
@темы: ссылки, традиции, журнал «Северный Ветер»
- U-mail
- Дневник
- Профиль
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
Новолуние было 16.06, пойдёт 6й лунный день, 1я фаза Луны, если это важно.
О празднике в сообществе:
- Our Troth. Глава 52 – Мидсаммер (Midsummer). (2010)
- Вершина лета: Мидсаммер, Купальница и Купала (2012)
«Сайт для современных ведьм»
- статья Shellir «Лита-Летнее Солнцестояние»

- U-mail
- Дневник
- Профиль
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
В национальном парке "Куршская коса" начинает работу историко-этнографический музей "Древняя Самбия". Он представляет собой копию поселения викингов – деревню, воссозданную по результатам археологических раскопок в Зеленоградске, проведённых Балтийской экспедицией Института археологии РАН под руководством доктора исторических наук, профессора Владимира Кулакова.
В этнографический ансамбль входят жилой дом с мастерской и хлебной печью, кузница, арсенал, склад для дров, коптильня для рыбы и мяса. Все объекты сооружены из бревен, из крыши полностью покрыты тростником, добытым на побережье залива. Поселение ограждено деревянным частоколом и оборонительным сооружением, которое протянулось вдоль Куршского залива.
"Все гости Куршской косы теперь могут стать участниками интерактивной площадки под названием "Древняя Самбия в эпоху викингов". Посетителей ждёт увлекательная прогулка по древнему поселению, знакомство с традиционной культурой и образом жизни, с костюмами народов Балтии в эпоху викингов. Туристы смогут увидеть, как обрабатывались в то время кость и янтарь, делались ювелирные украшения, а также примерить доспехи и костюмы викингов", - отметила пресс-секретарь парка Ольга Большакова.
Строительство музея прошло в рамках международного проекта приграничного сотрудничества России, Литвы и Польши по линии Евросоюза "Заливы как перекрестки туризма и взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к современности". Комплекс войдет в международную сеть историко-этнографических музеев эпохи викингов в Юго-Восточной Балтике.

- U-mail
- Дневник
- Профиль
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
Очень рекомендую. Кроме, может быть, первой лекции, немного сбивчивой и по смыслу вводной.
Уважаемый Иван Олегович
Из недостатков:
читать дальшеа)нервирует (меня) постоянное стремление ставить ударение в древнесеверном на втором слоге (Инглинги и т.д.). На первом, в словах с одним корнем — всегда на первом!!!
б)единым махом обидели меня лично и всю «Северную Славу» заодно: уважаемый лектор утверждает, что Сага о Гаутреке на русский не переводилась.

в)местами изложение уходит в сторону: явно хочется рассказать и то, и это и всё-всё-всё...а время лекции ограничено. Но это даже и не недостаток.
г)Н. несколько раз ссылается на предсмертные висы Рагнара Лодброка, где тот якобы говорит о Валхалле. Сага о Рагнаре таких вис не знает: сообщение предсмертных стихов предельно конкретно: меня убивают змеи, но мои сыновья узнают об этом (...и Элле мало не покажется - опущено
 ).Прядь о сыновьях Рагнара тоже молчит о загробных надеждах не в бою умершего...
).Прядь о сыновьях Рагнара тоже молчит о загробных надеждах не в бою умершего...д)...ну, я всегда найду, с чем поспорить.

Прослушать вКонтакте лекции (а если Вы в ладах с vkSaver - то и скачать) можно здесь.
P.S.А знаете, в чём главный прикол, други мои?
читать дальшеКусочек авторской странички вКонтакте:

При этом на аватаре изображен человек (хозяин странички?) с Мьёльниром.
РПИ - Российский православный Институт (или должно было быть РПУ?), кстати.
Постмодерн? Эклектика? Чувство юмора?...

@темы: литература, мифология
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
Известно, что крупнейший в Европе курганный могильник раннего средневековья – сейчас в крайне запущенном состоянии, несмотря на то, что находится под охраной государства. "В настоящее время часть территории комплекса, расположенная на территории Смоленского района, представляет собой крайне печальное зрелище, – говорится в обращении. – За многие годы запустения, безответственных действий чиновников, "бурной хозяйственной деятельности" жителей близлежащих населенных пунктов территория комплекса превратилась в свалку, растут масштабы несанкционированных раскопок. Земли, находящиеся на территории комплекса, попросту распродаются частникам. Трудно достоверно определить, сколько курганов было уничтожено, но первоначальное их число составляло не менее 4 тысяч (в настоящее время сохранилось примерно 2,5 тысяч)".
Подробнее: ulfdalir.ru/news/976
Сбор подписей: democrator.ru/problem/14022/bezdeiystvie_i_kha
Ещё по теме: gnezdovo.blogspot.ru/2015/05/blog-post.html


Разрушенный курган


Свалка


Снесенный трактором участок в центральной курганной группе
И, увы, многое, многое другое.
P.S. В Internet Explorer сайт Демократор.ру может глючить, лучше пользоваться другим браузером. Для голосования надо зарегистрироваться на сайте (имя+электронка), кнопка «Поддержать» — зелёная слева внизу.
@темы: объявления
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
В Скандинавии рунические надписи исчисляются сотнями и тысячами. В Восточной Европе их очень мало – у нас это очень большая редкость…
Но мало кто знает, что на территории Пскова и Псковской области также найдены три скандинавские рунические надписи и одно подражание скандинавским рунам. Одна надпись и подражание происходят с территории самого Пскова, одна надпись – с поселения Борисоглеб на Ловати на юге Псковской области и одна – опять же с берега Ловати, с поселения Юрьевы Горы на окраине посёлка Усвяты. Таким образом, псковские руны происходят с обоих вариантов пути «из варяг в греки» – с ловатского и повеличенского, где, согласно археологическим исследованиям, хорошо известны скандинавские древности IX–X веков.
читать дальше(...)
По-видимому, в эпоху викингов руны достаточно широко могли применяться скандинавами и на Руси. Арабские источники IX–X веков сообщают о том, что на вершинах курганов, в которых руссы хоронили своих соотечественников, они устанавливали памятные деревянные столбы, на которых писали имя умершего и имя царя руссов. Согласно времени письменного источника и этнической обстановки того времени на Руси, это могли быть только рунические надписи.
На территории России, Белоруссии и Украины рунических надписей найдено немного – чуть более 20-ти. Они перечислены в последней сводке Е.А. Мельниковой за 2001 год. Наиболее известны стихотворная надпись на палочке длиной 42 см из Старой Ладоги, две подвески с руническими знаками из Рюрикова Городища под Новгородом (сейчас там найдена ещё одна надпись) и кость из Новгорода с частью рунического алфавита.
Часто приходится иметь дело с магическими рунами, имеющими особые начертания. Такие надписи плохо поддаются дешифровке и иногда имеют несколько вариантов прочтения.
В Псковской области предметы с рунами найдены как на юге области, так и в самом Пскове. На поселении Юрьевы Горы близ посёлка Усвяты, расположенном на берегу реки Ловать, найден фрагмент венчика раннекругового сосуда, на котором уже после обжига нанесены рунические знаки.

В конце 80-х годов прошлого века я послал фотографию этой находки известному ленинградскому рунологу Ю.К. Кузьменко. Через некоторое время он сообщил, что первые две руны расшифровал. После этого Кузьменко уехал в Германию, и наша связь оборвалась. Согласно мнению шведских рунологов, с которыми я консультировался в Эстонии и Швеции, – это руны эпохи викингов, то есть, IХ–Х веков. Хотя существует небольшая возможность, что они более ранние.
Другой фрагмент стенки лепного сосуда с руническими знаками был найден мною во время раскопок селища Борисоглеб на Ловати в заполнении ямы.

Здесь до обжига нанесены рунические знаки с двух сторон. Рядом со знаками на одной стороне – длинная линия; возможно, надпись на этой стороне была заключена в рамку. Надпись на противоположной стороне фрагмента помещена по отношению к первой с поворотом на 90º. По мнению шведских рунологов, это также надпись эпохи викингов.
Вероятно, «рунические» сосуды применялись для каких-то магических целей и, вполне возможно, при этом преднамеренно разбивались. Напомню, что в готской Лепесовке руны также известны только на фрагментах керамики. Целых сосудов с рунами там нет.
Во время ведения археологического раскопа на ул. Ленина в слое XII века была найдена роговая лопаточка, на рукояти которой нанесены рунические знаки. Судя по начертанию, это – магические руны. Дешифровка не проводилась.

Способ применения таких лопаточек в самой Скандинавии не ясен. Несколько выставлено в музее Сигтуны. Когда я спросил, для чего они применялись, мне ответили, что они не шведские, а лапландские. «Это не наше – это лапландское», – так всегда отвечают шведские археологи, если что-нибудь не знают. Очень удобная формула.
Наконец, из небольшой коллекции В.М. Мусийчука происходит немного изогнутая свинцовая пластинка с начертаниями на внутренней вогнутой стороне.

Когда я показал прорисовку с этой пластинки шведскому рунологу на истфаке Стокгольмского университета, он очень уверенно сказал, что человек, который прочерчивал эти знаки, руны не знал, но рядом были те, кто их знал. То есть, перед нами подражание рунической письменности. По словам владельца коллекции, он нашёл эту вещь на берегу реки Великой там, где улица Некрасова упирается в берег реки. Это было ещё до того, когда на берегу появилась бетонная отмостка. Надо отметить, что несколько выше по берегу, на месте нынешнего гостиничного комплекса «Палаты Подзноевых» был найден скандинавский могильник эпохи викингов Х века.
Таким образом, фонды Псковского музея-заповедника располагают тремя скандинавскими руническими надписями, сделанными на роге и глине. Подражание до нас не дошло – есть только фотография и сделанная по ней прорисовка.
В Скандинавии рунические надписи нанесены на камнях. Не исключено, что и у нас иногда могло быть то же самое. Если кто-то из читателей знает какие-либо камни с непонятными надписями и знаками, напишите в редакцию «Псковских Новостей». Мы их обязательно осмотрим и вам напишем.
(с)
@темы: руны, история, статьи, Псковская область, традиции
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментировать
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal

Обращение, конечно, несколько запоздало. Но причина тому - выезд на праздник к московской общине «Скидбладнир». Спасибо Вам, ребята! За чудесные ночь и день, за очень правильный обряд, за прекрасное место. Takk kærliga!
@темы: праздники, Майский день
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментарии (3)
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal






